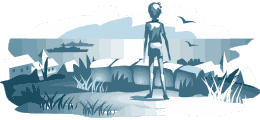Далеко-далеко от моря...
Когда спрашивают, почему я, человек вполне сухопутный, так привязан к Севастополю, к морякам и кораблям, я говорю:
— Потому что в детстве мне очень не хватало моря.
Детство я провел в Тюмени. Тюмень тогда еще не славилась как столица нефтеносного края. Это был город с деревянными тротуарами на центральных улицах, довольно зеленый летом и тонувший в грязи осенью.
Наш дом номер пятьдесят девять стоял в самой середине улицы Герцена. Одноэтажная и немощеная, эта улица по тогдашним масштабам считалась очень длинной. Начиналась она у старого Текутьевского кладбища, которое синело вдали, как неведомый лес, а кончалась у Земляного моста через лог, недалеко от района Большое Городище.
По вечерам над крышами Городища и дальними тополями горели очень яркие закаты. Со стороны заката брели с пастбища коровы. Я каждый раз поражался, из какой дальней дали шагают эти невозмутимые Милки, Машки и Зорьки. Ведь за Земляным мостом, за Городищем, за таинственными башнями старинного монастыря были, говорят, еще кварталы, дороги, военный городок со стрельбищами, а уж потом начинались луга и рощицы. Сам я до семи лет не бывал ни в том, ни в другом конце улицы. Порой мне казалось, что на востоке, за страшновато-загадочным кладбищем, и на западе, за чернеющими на закате тополями, сразу начинаются неизведанные края. С заповедными лесами и непохожими на Тюмень городами. И с морем...
Осенью сорок шестого года, когда мне было восемь лет, мы с мамой переехали с милой сердцу улицы. Недалеко переехали, за пять кварталов, на Смоленскую. И хорошо хоть, что недалеко...
Смоленская на первый взгляд ничем не отличалась от улицы Герцена. Те же домики, ворота и хлипкие деревянные тротуары. Но была она гораздо короче, несолидно виляла, и в концах ее никогда не светились ни восходы ни закаты. И я ни разу не мог представить, что за дальним краем этой улицы есть что-то необыкновенное.
И я то и дело убегал туда, где провел свое дошкольное детство. Там была родина. Там были друзья-приятели. Были и недруги, но даже они казались симпатичнее недругов на Смоленской. И там, в нашем длинном одноэтажном флигеле, по-прежнему жил холостяком дядя Боря.
Дядя Боря — это мамин брат. Уже тогда он был немолод и болен. Во время войны он перенес жесточайшую дистрофию, считался среди соседей полным неудачником, но душа и характер у него были неунывающие. Он учил меня делать луки и деревянные мечи, бумажные кораблики и самолеты, рассказывал о своем детстве на берегах Вятки, о шумных и дымных химических опытах, которыми увлекался в школьные годы. И при случае довольно безжалостно высмеивал меня, если узнавал, что я опять спасовал в стычке с вечным соперником Толькой Петровым.
Обитал дядя Боря в проходной комнатушке между Общей кухней и комнатами, где после нас поселилось большое семейство моего приятеля Вовки Покрасова. Имущество дяди Бори состояло из двух табуретов, трехногого Кухонного стола (четвертый угол был прибит прямо к стене), ходиков с картонным циферблатом и тяжелыми плоскогубцами вместо гири и оклеенного драной клеенкой чемодана, где лежала кое-какая одежда, бритва и потрепанная книжка “Евгений Онегин”. Эта книжка была чем-то дорога дяде Боре, он ни разу не дал мне ее полистать.
Спал дядя Боря на железной койке с досками вместо сетки. Но, когда мы уезжали из этого дома, мама оставила дядюшке широкую кровать с узорчатыми спинками из железных завитушек и медными шишками в виде крошечных самоваров.
Да! Еще был самовар! Правда, подставка у него отвалилась и нижней частью он был засунут в старую, обгорелую кастрюлю. В другой такой же кастрюле дядя Боря варил картошку. Она вместе с хлебным пайком была в те годы почти единственной дяди Бориной едой. Но варил он картошку здорово! С лавровым листом, с укропом, в каком-то особом душистом пару. Клубни получались покрытыми мягкой розоватой корочкой и пахли, как райские плоды. Подуешь на картофелину, макнешь в крупную серую соль и, слегка обжигаясь, начинаешь жевать ее вместе с тонким пластиком хлеба...
Варили мы картошку на таганке. Дядя Боря ставил таганок на плиту, в зев большущей русской печи, сложенной в общей кухне. Зажигал под кастрюлей костерок из трескучих щепок. Отблески разлетались по стенам. Искрился в углу пузатый самовар (не дяди Борин, а Шалимовых, соседей), в погашенной лампочке дрожала оранжевая искра. Посидеть у огонька приходили с вечерней улицы ребята. Они вспоминали недавний футбольный матч с пацанами с улицы Челюскинцев или спорили, кто победит завтра в цирковой встрече по французской борьбе.
Дядя Боря включался в спор. Он любил азарт спортивных матчей и часто ходил смотреть борцовские соревнования на арене. Тем более что это было недалеко: деревянный, пестреющий фанерными афишами цирк стоял в квартале от нас, на углу Первомайской. Вечерами было слышно, как перед началом представления оркестр играет марш Дунаевского...
От цирковой темы разговор переходил на другое. Иногда дядю Борю просили рассказать какую-нибудь историю. И он, посмеиваясь, рассказывал о том, как в детстве с друзьями напугал вредную соседку: они выдолбили тыкву, намалевали на ней рожу, прорезали глаза и зубастую пасть, вставили внутрь свечку и поднесли такого “гостя” к соседкиному окну. Или о том, как он катался в тележке, запряженной громадным воздушным змеем. Или как ехидная коза съела его папку с документами, когда он служил в страховой конторе и ходил по дворам, переписывая хозяйственные строения...
Но иногда дядя Боря говорил о серьезных вещах. На пример, каким городом станет Тюмень в будущем. Он работал в плановом отделе какой-то строительной организации, и через него “проходили” многие чертежи и проекты.
Проекты были фантастичны. Оказывается, на нашей улице уже запрещено строить дома ниже двух этажей. В центре города будет возведено множество кирпичных зданий. А за рекой скоро построят — невозможно поверить! — шестиэтажную больницу. В городе, где верхом монументальности было несколько четырехэтажных домов, это казалось непостижимым. И мы притихали, пораженные грядущим размахом цивилизации... А дядя Боря щепал смолистую лучину и подбрасывал под кастрюлю. Кастрюля начинала булькать, крышка на ней подпрыгивала...
Но еще больше я любил зимние вечера, когда мы топили голландку.
Круглая, обитая черным железом печка стояла посреди флигеля и выходила на четыре стороны: половиной — в две комнаты Покрасовых, четвертушкой — к Шалимовым и еще четвертушкой — в дяди Борину каморку. Дверца находилась здесь, у нас с дядей Борей. Тяжелая, с выпуклым, узорным литьем. Чтобы открыть ее, нужно было открутить могучий винт и убрать чугунный засов. За тяжелой дверцей была еще одна — тонкая, с овальным отверстием — поддувалом.
Дрова в голландке разгорались стремительно. Печка начинала празднично гудеть, как топка на веселом пароходе (так мне казалось). Прижимаясь лицом к изогнутым прутьям кроватной спинки, я смотрел, как мечется в глазке поддувала желто-белое пламя. Тонкая дверца мелко дрожала. Не выдержав вибрации, круглый лепесток заслонки срывался и закрывал поддувало. Тогда дядя Боря слегка отодвигал дверцу. Гул огня переходил в мурлыканье, оранжевый свет вырывался из печки и плясал на цирковой афише, где фокусник Мартин Марчес выкидывал из рукавов цветные ленты. Ленты выписывали в воздухе две буквы М...
Мурлыканье печки убаюкивало, и я не сопротивлялся дреме. Спешить было некуда, я ночевал у дяди Бори. Но тут с шумом являлся Володя Шалимов — студент лесного техникума — со своими приятелями. Приносили заиндевевшую на морозе гитару.
Меня деликатно выпроваживали с кровати, на ней рассаживались гости. Вваливался Вовка Покрасов с охапкой дров: его семейство посылало свою долю для печки.
Мы с Вовкой устраивались у трехногого стола и лениво расставляли на картонной доске шашки. У потолка повисали слои табачного дыма. Начинала рокотать гитара.
Или мне сейчас так помнится, или в самом деле все песни были о море и дальних краях...
“Прощайте, скалистые горы...”
“На рейде ночном легла тишина...”
“Ой вы, ночи, матросские ночи...”
“Плещут холодные волны...”
А потом разухабистая:
“В кейптаунском порту с какао на борту “Жанетта” набивала такелаж...”
Может быть, Володя глушил тоску по океанам: из-за сломанной и плохо сросшейся руки он не попал в морское училище-Гитара начинала рокотать тише и печальнее. Это наступало время песни о Диего Вальдесе, которого не пощадила судьба — сделала из вольного бродяги верховного адмирала. Потом на одних басовых струнах звучал тревожный киплинговский марш:
Осторожно, друг: бьют туземцев барабаны —
Они нас ищут на тропе войны...
Дядя Боря иногда подпевал, а чаще молча слушал да подбрасывал в печку дрова. (Вот и Лешка Шалимов, Володин брат-пятиклассник, принес полешки). Дядя Боря прикуривал, ухватив желтыми пальцами выпавший на железный лист уголек. Лицо его было неулыбчивым.
Он был в душе поэтом и путешественником, но жизнь получилась не такая. Надо было помогать матери и родственникам, пришлось работать поближе к дому на конторских должностях. Да к тому же не пойдешь в матросы с больным позвоночником. Но дядя Боря никогда не жаловался на судьбу и печальным бывал редко. Пожалуй, только во время песен. Наверно, они напоминали, что он до сих пор не видел моря...
Я ловлю себя на том, что далеко ушел от разговора о Севастополе. Но мне хочется вспомнить подробности тех дней, когда я впервые ощутил тоску по этому городу. Все это неразрывно: комнатка с одним окном, старые ходики, гитара, афиша на стене, хорошие люди, которые грустили о море. И книга, которую я стащил у Лешки Шалимова.
Это случилось в начале июня. Дяди Бори не было дома, и я от нечего делать зашел к Шалимовым. Лешка сердито мастерил из загнутой медной трубки и гвоздя пугач-хлопушку. На меня он глянул с хмурым равнодушием. Вообще-то мы были хорошими знакомыми, почти приятелями, потому что несколько лет жили рядом. Но иногда Лешкин возраст брал свое, и тогда я чувствовал себя малявкой. Случалось, что Лешка с друзьями-ровесниками хихикал над моими большими ушами и пугал мохнатыми гусеницами, которых я жутко боялся. В те дни, о которых я рассказываю, он дразнил меня непонятным прозвищем Кнабель. Дразнил за голубой нарядный костюмчик — мне прислал его в посылке отец (он еще не демобилизовался и служил в Германии). Прозвище было обидным и несправедливым, потому что я обновкой нисколько не хвастался. Просто больше не в чем было ходить, все прежние штаны и рубашки поистрепались.
Впрочем, Лешкины дразнилки были беззлобные. А по-настоящему злился он, если к нему лезли под руку во время важной работы. Поэтому я не стал соваться и разглядывать пугач, а смирно присел на укрытую суконным одеялом койку.
На коричневом сукне лежала книга. На книге были разлапистые якоря и парусные корабли. И слова: “С. Григорьев. Малахов курган”.
“Тюх... Тюх-тюх-тюх...” — затолкалось у меня сердце. Все, что было связано с морем и парусами, приводило меня в волнение. Книгу я тихо открыл и стал читать, как десятилетний мальчик Венька стоит на крыше своего дома и смотрит на входящую в бухту эскадру.
Страница за страницей... Я листал их неслышно и сидел не шевелясь, хотя ныла спина, а колючее одеяло кусало ноги. Я боялся лишним движением напомнить про себя Лешке. Если с пугачом не заладится, Лешка книгу отберет, а самого меня выставит.
Видимо, с пугачом ладилось. Лешка, не сказав ни слова, ушел, а через минуту на дворе грохнуло и перепуганно завопили куры. Выстрел встряхнул меня. Надо было принимать решение. Сказать Лешке “дай почитать”? Он может ответить “бери”, а может и буркнуть “сам читаю”, или “не моя”, или “иди ты на фиг, Кнабель”...
Я непослушными пальцами расстегнул на животе перламутровые пуговки, запихал книгу под куцую заграничную рубашечку и боком скользнул на кухню, а потом в комнату дяди Бори. Щелкнул на двери крючком и замер с книжкой у стола...
Через какое-то время (кто его знает, через какое!) Лешка задергал дверь.
— Кнабель! Это ты стырил книгу?
— Сам “Кнабель”, — дерзко отозвался я, уповая на прочность крючка.
— Ну ладно, Славка. Давай сюда... — сказал Лешка довольно миролюбиво.
— Я только маленько почитаю.
Дверь задергалась изо всех сил.
— Давай сюда, кому говорят!
— Жила! Все равно не дам, пока не дочитаю! — отчаянно сказал я, потому что расстаться с повестью о Севастополе было выше сил.
— Ну, только выйди, — нехорошим голосом предупредил Лешка.
В окно я увидел, как он присел на крылечко и стал скоблить спички для пугача.
Выходить я не собирался. Но в любую минуту мог явиться кто-нибудь из Некрасовых и пришлось бы отпереть дверь.
Я тихо откинул крючок. Потом проник в незапертую квартиру к Некрасовым, а оттуда через окно выбрался на улицу.
Домой я не пошел. Чего доброго, Лешка явится за книгой и туда. Я забрался в гущу желтой акации в сквере у цирка и просидел там с “Малаховым курганом” до вечера. Потом читал дома допоздна, а кончил к середине следующего дня, когда за окном плескался и лопотал теплый июньский дождик, перебиваемый солнечными вспышками.
Виноватый, готовый к заслуженной каре, но все равно счастливый, понес я книгу Лешке. По лужам. Лешка встретил меня миролюбиво. Даже не сказал “Кнабель”. Может, потому, что я был босой, с ногами, заляпанными до колен грязью, а голубой костюмчик, истерзанный и перемазанный в пыльных кустах акации, потерял свой заграничный блеск. А может, Лешку подкупила моя виноватость. Или он что-то понял... В общем, он улыбнулся распухшими после недавней драки губами и самокритично произнес:
— Ловко ты вчера меня обкрутил... — Потом вытащил из кармана пугач и великодушно предложил: — Аида, жахнем...
Я побаивался жахать. Но признаться в этом Лешке... К тому же десятилетний Венька из повести “Малахов курган” не боялся палить из настоящей мортиры и даже медаль за свою стрельбу получил.
И мы за помойкой по очереди грохнули зарядами из пяти спичек (и я даже почти не жмурился). А про книгу Лешка сказал:
— Да ладно, у меня сейчас “Восемьдесят дней вокруг света” есть. А эту читай еще, если охота...
И я читал еще. На второй раз и на третий. Не спеша. Про Веньку и про Нахимова, про гибель кораблей, затопленных у входа в бухту, и про матросов на бастионах. В книге было много печального, но сильнее печали была гордость. Спокойная такая гордость людей, которые дрались до конца и сделали все, что могли. Тогда я впервые, смутно еще, почувствовал, что в самые тяжкие дни гордость для человека может быть утешением... Если он держался до последнего, если не сдался...
А еще в книге был сам город. Севастополь. Я читал о жутких бомбардировках, о развалинах и пожарах, но сквозь дым военного разрушения продолжал видеть мирный и солнечный город у необозримого моря — тот, который видел Венька с крыши в начале повести. Тот, который нужен был мне. Уже тогда я представлял его совершенно отчетливо. Синие-синие бухты, желтые слоистые обрывы, оранжевую ребристую черепицу на белых домиках, каменные лестницы в запутанных переулках, полукруглые равелины с амбразурами, маяки и бастионы...
Я рассматривал рисунки. Они были сделаны тонкими штрихами, очень понятно и удивительно похоже на то, что написано. Портреты севастопольцев, корабли, орудия. Может быть, сейчас эрудированные критики-искусствоведы нашли бы эти картинки излишне реалистичными и несовременными, не знаю. Мне они нравились. Не меньше, чем сама книга.
Потом, уже взрослым, я узнал, что рисунки для книги делал художник Павел Иванович Кузьмичев, который много лет работал в журнале “Пионер”.
Однажды в редакции “Пионера” сильно затянулось какое-то совещание, и я провожал Павла Ивановича домой. Мы ехали в такси по вечерней Москве. По дороге я рассказал, как читал в детстве “Малахов курган” и как мне нравились иллюстрации.
Павел Иванович расчувствовался. И стал вспоминать, с какой радостью работал над рисунками,
— Сергею Тимофеевичу они тоже нравились... Мы с ним хорошо знакомы были. Знаете, я ведь помню, как он работал над своим “Курганом”. С любовью работал, переживал. Однажды встречаю, а он говорит просто со слезами: “Похоронил я сегодня свою Хонюшку...”
Хоня — это старшая сестра Веньки, она умерла во время обороны города. Я помню в книге ее маленький портрет — на фоне покосившихся, торопливо сколоченных кладбищенских крестов...
Мы с Павлом Ивановичем поднялись к нему в мастерскую и засиделись до полуночи. Он подарил мне свою гравюру “1942 год”. Одноногий солдат на костылях движется куда-то по размытой дороге, а на горизонте разрушенный город.
Войны не щадили ни людей, ни города...
После Первой обороны от Севастополя остались груды обгорелых камней. А в те дни, когда я впервые прочитал об этом лучшем на свете городе, он опять лежал в развалинах. Я это знал, и от такого горького знания у меня временами появлялась тяжкая, совсем не мальчишечья тоска. Все равно как если бы у меня на глазах разграбили, расстреляли; разбомбили мою улицу Герцена. Мне даже снился тогда пустой черный сон: будто я и мама идем откуда-то осенним вечером, сворачиваем с улицы Дзержинского к нашему дому — а дома нет. Угольные, мокрые от дождя развалины, обгорелый, обломанный тополь, желтая лампочка на кривом столбе, а вокруг нее летящий бисер дождя. И глухо, мертво вокруг. Я поворачиваюсь к маме, но и мамы уже нет. И некуда бежать, бесполезно звать, потому что пусто и темно — везде... И я стою без слез. И не страшно даже, а только чудовищно одиноко и беспросветно.
Избави нас судьба от таких снов...
Дядя Боря говорил, что Севастополь уже восстанавливают и через несколько лет он будет лучше прежнего. Это меня утешало (хотя не надо, чтобы “лучше”, пускай станет такой, как прежде!). А еще утешало, что враги заплатили за севастопольские развалины ой-ей-ей какой ценой! Это была та самая гордость, которую я впервые почувствовал в книге “Малахов курган”. Даже больше — это была гордость победителя. На капельку такой гордости я имел право: мой отец тоже был на этой войне. Ну, пускай не в Севастополе, но война-то была общая для всех солдат и для всех городов. Папа кончил войну в Берлине и расписался на рейхстаге, и есть у него медаль “За победу над Германией” и орден Красной Звезды...
Только что-то все не едет и не едет домой он...
Как-то в конце августа тетя Лена, Лешкина мама, спросила:
— Эй, бывший соседушка, хочешь в кино?
Она работала администратором в кинотеатре имени Двадцатилетия ВЛКСМ. В просторечии этот кинотеатр назывался “Детский”. Тетя Лена иногда брала компанию ребят со двора и проводила в зал по знакомству, без билетов. Контролерши ставили нам несколько стульев в углу у высокой печки, а кое-кто из нас усаживался на половицы. Экран был невысоко от пола, сидели мы совсем близко от него, и мерцающее чудо черно-белого кино буквально обнимало нас.
Новых фильмов было немного. Но и старые для нас, мальчишек, были открытием. Сопя от волнения, мы смотрели “Щорса” и “Чапаева”, “Пархоменко” и “Котовского”, “Мы из Кронштадта” и “Юность Максима”...
В этот раз с тетей Леной пошла привычная наша компания. Я теперь вспоминаю ее и вижу четко, как на фотографии. Рыжий недруг Толька в пыльных оранжевых трусах до колен, прожженной на пузе полинялой майке и громадной кепке — он воображал себя знаменитым вратарем из одноименной картины. Толькина длинная и прыщеватая сестра Галька в кокетливом венке из поздних одуванчиков и выгоревшем до белизны платьице. Вовка Покрасов — стриженный под машинку, с распухшим носом (треснулся о стропилину, когда мы лазили по чердаку), в обвисшей безрукавке и гремучих брезентовых штанах до пят. Лешка в мятых, но почищенных брюках и новенькой ковбойке — поскольку на глазах у матери. И я в своем "трофейном" костюме, потерявшем уже небесный цвет и перламутровые пуговки, — вместо них пришиты были честные латунные пуговицы со звездочками, а одна даже с якорем... И все мы, кроме Гальки и Лешки, босиком, исцарапанные в бурных дворовых играх и футбольных схватках... Только не помню, какой же это год: сорок шестой ”ли сорок седьмой?..
— А какое кино? — спросил я у Вовки.
— Вот балда, не слыхал, что ли? “Малахов курган”!
Что? Нет, правда? Вот чудо-то... Неужели я увижу то, про что читал в Лешкиной книжке?
Нет, было не “про то”. Было про войну с немцами. Совсем недавнюю. Про гибель нашего эсминца, про немецкие танки, про пятерых моряков, которые не пустили эти танки в Севастополь. Очень просто не пустили — пошли под гусеницы с гранатами.
Просто?..
Попрощались, отложили ненужные тяжелые пистолеты, взяли по связке гранат и пошли, один за другим. Навстречу лязгающим махинам. Зная, что через несколько секунд вспышка и потом — ничего...
Ни-че-го.
...В то лето меня часто мучила мысль, которая когда-нибудь приходит к каждому человеку: зачем я живу, если все равно будет конец? Если все равно наступит момент, когда меня не станет? Понимаете, меня! Совсем не станет. Тогда зачем все на свете? Зачем что-то делать, ходить в школу, куда-то спешить, с кем-то дружить, читать книги? Ведь все равно... Эта мысль хватала за сердце неожиданно, во время игры, купанья в реке, запуска змея. И тускнел яркий день. Страха не было, но становилось необъяснимо и безнадежно: зачем?.. Потом эта мысль милостиво отступала, давая место радостям жизни. Но я знал, что она, эта оглушающая, как удар, тоска может упасть на меня снова, и боялся заранее. Потому что понимал: ответа я не найду.
И вот — это кино. Про жестокий, про смертный бой, когда спасенья нет. Как пять человек зло и спокойно сами идут навстречу смерти.
Почему спокойно?
“Потому, что за ними Севастополь”, — подумали.
Сейчас эта мысль может показаться неправдоподобной для мальчишки. Звучит как лозунг какой-то. Но тогда это были не слова, а скорее ощущение. Я почувствовал, что люди с гранатами любили Севастополь сильнее себя. Конечно, не только Севастополь, а многое: всю нашу землю, своих родных, свои корабли, своих товарищей. Но в тот момент для меня это соединилось в слове “Севастополь”. Самом лучшем для меня слове.
Они любили его так, что это было самым главным. И поэтому не боялись умереть. Мало того — они не боялись жить. Они знали зачем. Жизнь и смерть имели для них четкий смысл. И тогда, по дороге из кино, я своим колотящимся ребячьим сердцем впервые смутно ощутил этот смысл человеческого бытия. Очень неясно, по-детски, без слов, но ощутил. Живешь по-настоящему, если что-то любишь. Что-то или кого-то. Если ты не один. Если вокруг тебя есть то, что дорого. Если ты — сам частичка этого. Тогда — не страшно...
Я не смог бы про это сказать да и не собирался. Но я ощущал радостное спокойствие. И чтобы другим стало так же хорошо, сказал:
— Все равно его скоро опять построят.
— Кого? — не понял Толька. Он, если что-нибудь не понимал, всегда говорил “кого”.
— Севастополь, — сдержанно ответил я.
— А тебе-то чё? — сказал Толька. — У тебя там невеста, чё ли?
И он хихикнул.
Я понимал, что он не против Севастополя, а против меня. Из-за рыжей своей вредности. Но все же я очень разозлился и сказал Тольке, что он конопатая коза и унтер-фон-сопель-фюрер. На последнее Толька жутко обиделся, и через пять минут мы подрались на нашем дворе за поленницами. При секундантах Вовке Покрасове и Амире Рашидове, который всегда был тут как тут при таких случаях. Драка получилась жидкая и кончилась вничью, потому что у Тольки лопнула резинка в трусах, и секунданты нас развели. Мы помирились.
А что нам оставалось делать? Мы и раньше с ним дрались и мирились множество раз. И чувствовали, что так будет впредь. Но драки были все же лишь мимолетными эпизодами в нашей жизни, а сама жизнь — удивительно длинной. Каждый летний день был бесконечным и солнечным. Мы понимали, что жить надо по-хорошему. И когда дядя Боря дал мне три рубля на маленькую порцию мороженого, я разрешил Тольке лизнуть у этой порции краешек...