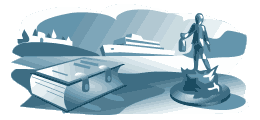ДЖОЗЕФ КОНРАД И МУЗЫКА
Кинтель и дед увязывали книги в пачки.
– Эту не надо, – сказал Кинтель, – она не наша, мне Корнеич дал почитать.
– О! Джозеф Конрад!.. Ну и как? Читал?
– Естественно, – отозвался Кинтель тоном Салазкина.
– Многие считают, что Конрад устарел...
– Только не "Зеркало морей"! Она вообще... как целая морская энциклопедия. И вот еще, смотри... – Кинтель открыл начало последней главы, ее название. "Тремолино".
– Выходит, ваша компания называется так в честь Джозефа Конрада?
– Ну, не в честь, а... по созвучию. Он тут пишет про двухмачтовую баланселлу с латинскими парусами, очень быструю. Она даже дрожала от скорости. А у Корнеича и у ребят была двухмачтовая яхта. Типа бермудской шхуны. Тоже очень легкая на ходу. Сперва ее хотели окрестить "Мушкетером", а когда испытали, дали название как у Конрада...
– Я, по правде говоря, забыл, что оно означает.
– Это по-итальянски. От слова "тремоло". Значит "дрожащий", "трепещущий". А "тремолино" – это уменьшительное. Вроде как "трепещущий малыш". Трепещущий не от страха, а от скорости. И от радости, что такая скорость...
– Весьма поэтично, – откликнулся дед, но уже с ноткой озабоченности. – Давай-ка, однако, поторапливаться. А то явится Варвара Дмитриевна, и оба мы будем дрожать и трепетать, когда она увидит такой кавардак.
– Мне-то что, – хмыкнул Кинтель. – Это ты трепещи. На то ты и есть молодой муж... – Он со смехом увернулся от подзатыльника, но запнулся за книжную стопку и растянулся на полу. Встал, кряхтя и потирая бока.
– Рукоприкладство в ответ на критику. Я травмирован и работать не могу... Толич, мне пора к ребятам, мы там карту рисуем... Ой, чуть не забыл! Можно я возьму туда на недельку твой альбом со старинными картами? И вот эту, со стены...
– Еще чего!
– Ну, То-олич! Нам надо кое-что срисовать, чтобы... чтобы получилось как в старину. Шрифты скопировать и обозначения...
– Что, у вашего Корнеича мало морских карт?
– Они современные, а старых нету...
– Потащишь куда-то такую редкость! Эта карта не покидала дом больше ста семидесяти лет.
– Все равно ведь придется скоро покинуть... Толич, не жадничай. Санькин отец не побоялся "Устав" мне дать, а ты...
– А я вредный... Ладно, шут с тобой, только сперва увяжешь все книги.
– Да я и так уже опаздываю!.. Я потом все один упакую, не волнуйся!
– Когда это потом... – проворчал дед.
– А куда спешить? Переездом пока и не пахнет...
Дед и тетя Варя расписались в ЗАГСе в середине октября. Тихо, скромно, без всякой свадьбы. И сразу стали решать вопрос о совместной жизни. Здешнюю квартиру и двухкомнатную тети Варину решено было поменять на трехкомнатное жилье. На Кинтеля по этому поводу нашло однажды грустно-подозрительное настроение, и он, надувшись, сказал деду:
– Я вам небось там и не нужен буду...
– Дурень, – ответил дед. И прибавил с какой-то виноватостью: – Комнату себе выберешь лучше прежней.
– Ну уж, "лучше". Небось потолки низкие. И вообще... Толич, тебе не жаль отсюда уезжать? Ты ведь здесь родился.
– А что поделаешь, – насупился дед. – Все равно к весне дом снесут. Сам знаешь...
О том, что дом должны снести, говорили давно, однако Кинтелю не верилось. Уже один за другим стали уезжать на новые квартиры жильцы первого этажа, но все равно казалось, что с домом ничего не случится. С таким привычным, с таким прочным... Кинтель так и сказал.
– Никакой он не прочный, – вздохнул дед. – Стропила все сгнили. И сырость в стенах. Говорят, ремонт себя не окупит. К тому же по генеральному плану здесь должна пройти улица – от моста до нового театра.
– Да театра-то еще нету! Его сто лет не построят! А дом развалить у всех руки чешутся!
Дед сказал, что разваливается вся страна, кто тут будет думать о каком-то старом доме.
Кинтель не считал, что страна совсем уж разваливается. Конечно, жизнь делалась все дороже и голоднее, даже ходили слухи про карточки на хлеб. И главное, люди повсюду посходили с ума. Однажды в таверне "Сундук Билли Бонса" маленький, всегда насупленный пацан по прозвищу Муреныш смотрел, как на экране лупят из минометов не то грузины по осетинам, не то азербайджанцы по армянам, потом плюнул, вытер ладонью брызги со штанов и произнес:
– Вовсе мозги проквасили. Взрослые называются...
Но пальба, стотысячные митинги и таможенные споры были где-то далеко, в других республиках или на окраинах России. А Преображенск время от времени лишь потряхивало забастовками: то встанут автобусы, то прекратят работу парикмахерские. Три дня, на радость ученикам, бастовали и педагоги. Требовали добавки к зарплате. Дружно так! В школе, где учился Кинтель, не поддержал забастовщиков лишь Геннадий Романович. Высказался почти как Муреныш:
– У вас что, вовсе мозги прокисли? Ребятишки-то при чем, их кто учить будет?
"Штрейкбрехера" заклеймили на стачечном комитете и постановили, чтобы убирался из школы. Геночка плюнул на "эту бабью ассамблею" и ушел. Говорят, подался в кооператив...
Но в общем-то жизнь была не такая, чтобы ударяться в панику. И главное – дружно жил и не думал разваливаться маленький отряд "Тремолино".
Нельзя сказать, что Кинтель прижился в "Тремолино" сразу. Сперва он ходил на Калужскую только ради Салазкина, чтобы не обидеть его. Кинтель понимал, что винить надо лишь себя, для отчужденности не было никаких причин. Он видел, что ребята отличные: как раз такие, каких он хотел записать в экипаж, когда мечтал о своем пароходе. И Кинтеля они встретили хорошо и спокойно, как давнего знакомого. Но были они в своем "Тремолино" как-то уж чересчур завязаны друг на друга. Одна семья, где все понимают каждого с полуслова. Они знали свои корни: историю прежних отрядов, из которых вырос "Тремолино", судьбы тех, кто был в этих отрядах раньше.
Иногда Корнеич пускал на разболтанном видике кассету с записью старых отрядных кинохроник и самодельного фильма "Три мушкетера". И весь народ смотрел это как про самих себя, хотя на экране сражались на рапирах, шли через пенные гребни на фанерных яхтах, шагали через лесную чащу и лупили палочками по коже высоких черных барабанов мальчишки семидесятых и восьмидесятых годов. Барабанщики "Эспады", "Мушкетера", "Синего краба" и, наконец уж, "Тремолино"...
Была на этой пленке и песня о трубаче. Ее пел в окружении пацанов худой смуглый паренек с тонкой полоской усиков на нервной губе. Длинноволосый, с продолговатыми, какими-то "марсианскими" глазами. Тот, кто придумал эту песню.
– Гена Медведев... Кузнечик... – шепотом говорили ребята. И с печалью.
Но даже эта песня не приближала Кинтеля к "Тремолино". Это была их песня, это был их Кузнечик. Их печаль оттого, что Кузнечик навсегда остался в прокаленной афганской земле...
Единственное, что связывало Кинтеля с отрядом, был Салазкин. Но он, оказавшись здесь, как бы растворялся среди обитателей "Сундука Билли Бонса", а Кинтель оказывался в сторонке.
Впрочем, внешне все выглядело нормально. И когда проводили занятия по парусной оснастке (а такое случалось), и когда обсуждали проект новой шхуны с бермудскими парусами, Кинтель не чувствовал себя совсем уж новичком: кое в чем он разбирался. Но если собирались просто так, "на огонек", он держался в уголке или ускользал на кухню, чтобы помочь Тане, жене Корнеича. Та принимала его помощь с благодарностью. И кажется, вообще понимала Кинтеля лучше других. Однажды сказала:
– Ну, Данечка, быть тебе корабельным поваром. Даже Маринка годится тебе лишь в младшие поварята.
И Кинтель мгновенно почуял: она хочет помочь ему. Дело в том, что каждый вносил в "Тремолино" что-то свое. Или какое-то умение, или черту характера, или даже какую-то необходимость особой заботы (как, например, Муреныш с его домашней неустроенностью). Эти способности, черточки, горести и радости как раз и создавали тот сплав настроений, который был воздухом "Тремолино". Был в этом сплаве и несильный, но чистый голосок Салазкина, когда один из старших мальчишек, Юрик Завалишин, брал гитару, и все пели песни, которых Кинтель раньше никогда не слышал (кроме "Трубача").
Кинтель петь не умел и стеснялся. Это ему легко прощали, как остальным прощали всякие другие недостатки: например, излишнюю дурашливость Витальки Не Бойся Грома или стремление маленького Костика то и дело постукивать в барабан, с которым он был неразлучен.
У Кинтеля не было ничего, что могло бы добавить экипажу "Тремолино" новых красок. Его легко взяли в компанию, но так же легко – он чувствовал это – могли обойтись и без него. Потому что не принимать же всерьез умение готовить макароны с жареным луком.
"Может, это потому, что я здесь тринадцатый, несчастливый?" – грустно усмехался про себя Кинтель.
Кроме него, ребят в "Тремолино" была ровно дюжина. Одиннадцать мальчишек и деловитая Маринка – отрядный "лекарь, пекарь и аптекарь". У Маринки был брат Андрюшка, на год младше. Бесстрашное создание с остреньким смуглым лицом и глазами, вечно жаждущими справедливости. Он лез отстаивать эту справедливость на улице, в своем дворе, в школе. Недели не проходило, чтобы Корнеич не кидался вытаскивать его из очередной истории. А еще были Сержик Алданов и Паша Краузе – самые "ветераны" отряда и неразлучные друзья, шестиклассник Игорь Гоголев (по прозвищу И-го-го), сочинявший стихи не хуже, чем Глеб Ярцев в классе Кинтеля, и тихий, немного похожий на Салазкина Сенечка Раух. И девятилетний неприкаянный Илька Мурзаев – Муреныш, – живший больше у Корнеича, чем дома. Он был одновременно и ласковый, и упрямо-самостоятельный. Большеглазый, чернявый, нестриженый...
Именно благодаря Муренышу кончилось в отряде скрытое отчуждение Кинтеля.
Однажды Муреныш взгромоздил у стеллажа самодельную стремянку и полез к верхней полке. Что ему там понадобилось, неизвестно, он ведь никогда не объяснял. Потянул с полки увесистую подшивку журнала "Морской флот", не удержал, не удержался сам. Муреныша поймали еще в середине полета. Но книги, которые посыпались за ним, поймать не смогли.
А следом за книгами со звоном упал на половицы помятый, но блестящий пионерский горн.
Кинтель отпустил невредимого Муреныша и поднял трубу. Поправил загнувшийся край внешнего венчика. Горн был с мундштуком. С таким же, как на той фанфаре, которую дали однажды Кинтелю в "гусарском" оркестре.
Виталик Не Бойся Грома радостно подскочил:
– Ой, я и не знал, что у нас труба есть! Откуда?
– Да разве ж я помню, – недовольно отозвался Корнеич, он перепугался за Муреныша. – Кажется, от давних киносъемок осталась, кто-то герольда на рыцарском турнире изображал... По правде-то у нас горнистов почти не было. Лишь в самом начале были. А в "Мушкетере" и в "Синем крабе" уже ни одного. Только барабанщики.
Все привычно глянули на знакомую фотографию. И Кинтель. Снимок был большущий, пятьдесят на шестьдесят, в раме и под стеклом. На фотографии – десятилетний Данилка Вострецов в парадной форме барабанщиков "Эспады": с плетеным капроновым аксельбантом на рубашке, в лихо заломленном берете, в белой портупее. Слегка взъерошенный ветром и собственной радостью, он сиял веснушчатым лицом и от души лупил в барабан, растопырив колючие локти и расставив среди подорожника и клевера щедро украшенные синяками ноги в съехавших гольфах.
Кинтель стеснялся смотреть на эту фотографию и не раз думал: как Корнеич сам-то смотрит со спокойной душой? На себя, стоящего на двух ногах. Ведь одной-то ноги теперь нет! Вот этой, левой, с белым квадратным пластырем под коленкой. Она выросла и была раздроблена миной в Афгане, и ее отрезали ниже колена, и теперь там скрипучий протез. Кто не знает, сразу и не заметит, но ведь Корнеичу-то сколько мук...
Однако и Корнеич, и другие всегда смотрели на снимок без боязни и неловкости. И сейчас тоже. Но Кинтелю вдруг показалось, что они прочитают его мысли, и он отвел глаза. И чтобы скрыть смущение, спросил:
– А почему их не было, горнистов-то?
– Да так как-то... – Корнеич развел руками. – В барабан стучать – дело нехитрое, а для трубы способности нужны, чтобы играть чисто, а не дудеть, как на школьном сборе...
Кинтель не удержался, тронул мундштук губами, и языком толкнул в него сгусток воздуха. Тонкий металл чутко отозвался, притих словно в ожидании.
– Умеешь, да? – подскочил Не Бойся Грома.
– Не-а... я так просто...
– А все-таки? – сказал Корнеич.
– Да нет же... Я только один раз в руках фанфару держал, в оркестре. Попробовал однажды...
– Ну попробуй еще разок, – с пониманием и с каким-то нетерпением попросил Корнеич.
Кинтель послушался. Как и в том случае, в клубе, звук получился чистый, высокий и с переливчатым дрожанием, которое называется "тремоло". Тогда Кинтель, словно испугавшись, что могут остановить, проиграл те четыре ноты, что и в прошлый раз, три года назад. Проснулась в нем память этих звуков. И они запели так, что отозвались оконные стекла и колыхнулись паруса модели... И влетела в комнату Таня:
– Вы что, люди! Ромка только что заснул!
Кинтель чуть не провалился. Но Корнеич сказал:
– Подожди. Ромку полковым оркестром не разбудишь, а мы тут горниста нашли... Быть тебе, Данила, трубачом, первым в истории "Тремолино"... Если, конечно, согласен.
– Да я же ничего не умею! Только вот это, что сейчас! И то случайно получается...
– Достаточно и этого для начала. Готовый сигнал. Потом научишься. Главное тут – сама идея и почин...
Кинтель увидел глаза Салазкина – и радостные, и просящие: "Не отказывайся!" И ощутил, как вырастает связь: "тремоло" и "Тремолино". Кинтель и отряд...
То ли по случайности так вышло, то ли был в этом особый смысл – в тот вечер Маринка сказала:
– Дань, давай я на твоем галстуке название вышью, наше. Все равно школьные дружины рассыпаются. А мы живем...
В "Тремолино" никто, даже старшие, с галстуками не расставались. В этих алых треугольниках здесь видели особый смысл. Кинтель знал давнюю историю, когда в середине семидесятых для первой шхуны не хватило парусины и бушпритные паруса сшили из красного синтетического шелка. Тогда еще можно было найти в магазинах и недорого купить такую материю. Кливера эти стали знамениты на всем Орловском озере. Командир "Эспады" Саша Медведев, старший брат Генки Кузнечика, однажды в разговоре с корреспондентом "Молодежной смены" рассказал:
– Недавно опять на улице шпана к нашим ребятам прискреблась, хотели галстуки посрывать. А для "Эспады" галстуки – это не часть школьной формы, без которой завуч не пускает на уроки. Это символ алого треугольного паруса, кливера. Именно такие паруса помогают идти круто к ветру... Ну и вломили наши мальчики этим пиратам...
Интервью с командиром "Эспады" было напечатано. А через день в отряд явился бойкий молодой человек в отутюженном костюме с комсомольским значком. И предъявил претензии. Мол, что это за новые пионерские законы и правила вы пропагандируете! Во все времена считалось, что красный галстук – символ единства трех поколений, а вы тут со своей трактовкой! Есть разработанная символика!..
Разговаривал он чересчур самоуверенно, а кандидат физических наук Александр Медведев чиновников недолюбливал. И сказал комсомольскому деятелю, куда тот должен идти вместе с разработанной символикой. После этого у "Эспады" и у Саши начались очередные неприятности, отряд который уже раз поперли из помещения, но ребята держались. А три алых кливера сделали своей эмблемой. Навсегда...
После случая с трубой Кинтель осмелел и пару раз напоминал, что Данькой и Данилой звать его не стоит. Лучше привычным именем-прозвищем. И скоро стал здесь, как и везде, Кинтелем. Для всех, кроме Салазкина. Тот по-прежнему звал его Даней. А больше никто. Но и Саню Денисова никто не называл "Санки" или "Салазкин". Это было как бы право одного Кинтеля...
Конечно, звание трубача было чем-то вроде почетной должности. Звание-название. Потому что, если по правде, – зачем он нужен, горн-то, в двухкомнатной квартире, где собирается экипаж "Тремолино". Маленький Костик – тот хоть подыгрывает гитаре на своем барабане, когда Юрик Завалишин начинает вступление к песне. А Кинтелю даже потренироваться негде – ведь не будешь трубить в комнате...
И все же Кинтель обрадовался, когда Маринка подарила ему нарукавный значок трубача (хотя и хихикал над собой: "Как третьеклассник, которому дали первое пионерское поручение"). На ромбике из вишневого бархата Маринка вышила золотистыми нитками круто изогнутую, старинного вида трубу, обметала материю такой же золотистой каемкой.
– На. Пришьешь на форменную рубашку.
– У меня же ее нету, рубашки-то...
Корнеич сказал:
– К весне будем всем новую форму справлять. Пора приводить экипаж в порядок. – И добавил: – Кстати, наши музейные мастерские с одним кооперативом законтачили, "Орбита" называется. Эти парни пообещали мне подбросить несколько листов фанеры-шестерки. Просто так. "Мы, – говорят, – в детстве тоже о парусах мечтали". Есть среди преображенских бизнесменов совсем даже порядочные люди... Так что, если отыщем к весне какой-нибудь сарай, можно будет закладывать корпус новой шхуны...
– Можно и прямо на берегу, на базе! – весело сунулся Не Бойся Грома.
Он не боялся трудностей. И вообще был отважной личностью, несмотря на внешнюю дурашливость. Свое прозвище он получил за то, что в позапрошлом году без лишних слов укротил и заставил полюбить себя громадного пса Грома, который охранял водную станцию. Вообще-то Гром был добродушной псиной, но на посторонних гавкал устрашающе. Загавкал и на Витальку, когда тот появился на берегу первый раз. Виталька без лишних слов подошел к зверю, обнял за шею, потрепал по лохматому боку. И Гром замахал хвостом, лизнул храброго пацана в подбородок...
Услышав предложение Витальки о строительстве под открытым небом, все заговорили, заспорили. А Кинтель осторожно затолкал нашивку во внутренний карман.
...Но однажды горн все-таки пригодился. Во время похода.
Впрочем, был это даже не поход, а воскресная лесная прогулка. На электричке доехали до станции Белый Камень, потом прошагали километра три и вышли на берег Орловского озера.
Справа, в далекой дымке темнел еле заметный город. По берегам щетинился синий лес, в котором мелькали последние проблески не успевшей облететь листвы. День стоял безоблачный, озеро среди берез и елей синело резко и чисто. На лужайках в жухлой опавшей листве и хвое виднелись последние мелкие цветы – робкие, бледно-желтые и белые.
– Завтра уже Покров, снег должен бы выпасть, а тут тепло такое, – сказала Маринка и почему-то вздохнула. – Ну ладно, костер все равно нужен. Мальчишки, идите за хворостом.
Кинтель, Салазкин и трудолюбивый Муреныш притащили охапки сучьев раньше других. Развели огонек, подвесили над ним ведерко с ледяной озерной водой. Вода уже нагрелась, а другие ребята все не показывались из чащи. Корнеич забеспокоился:
– Кинтель, а ну-ка, потруби...
И Кинтель достал горн, который перед походом, стесняясь, почти украдкой, сунул в рюкзак. Заволновался почему-то, но чисто и протяжно выдал на весь лес четыре ноты.
И побежали из-за деревьев, заспешили к огню послушные сигналу матросы экипажа "Тремолино".
– Что случилось?!
– Тревога, да?!
– Тревога оттого, что вы бродите где-то целый час, – притворно нахмурился Корнеич. – Хватит уже, вон сколько дров...
Дальше было все как бывает в таких походах. Посидели у огня, угостились обжигающим дымным чаем, вспомнили кое-какие песни. В том числе и "Трубача". Паша Краузе вдруг сказал:
– Вчера заспорил с одним парнем в нашем классе, он из скаутского отряда, из "Былины". Говорит: "Ваши песни – все какие-то агрессивные, к вечной борьбе зовут. "Нам коней горячить, догоняя врага..." Какого врага-то?" А я ему говорю: "Зато это наши песни..."
– В общем-то скаутский мальчик прав, – задумчиво согласился Корнеич. – Песни эти действительно из прошлых лет, из семидесятых. Тогда "Эспаде" и другим таким же отрядам воевать приходилось направо и налево. И школьное начальство нас поедом ело, и горкомовские чины. И местная шпана в трогательном союзе с ними... В чем-то тогда было даже лучше, чем сейчас. По крайней мере, знали, кто друг, кто враг... А сейчас большой враг разбежался на сотни маленьких. Будто крупный зверь превратился в сотню мышат. Кусают за пятки. Причем ядовито...
– Они бы лучше помалкивали, эти былинщики, – сказала Маринка. – "Синего краба" нашего сами на каждом сборе поют...
– А в общем-то они хорошие ребята, – заметил Сержик Алданов. – Никогда ни на кого не лезут. За первоклассников тогда заступились вместе с нами...
Корнеич вспомнил:
– Их руководитель мне звонил в начале сентября, приглашал: подавайтесь в нашу организацию. У скаутов, говорит, и материальная база, и возможность за-граничных поездок...
– А ты? – дернулся у Корнеича под боком Костик-барабанщик.
– А я говорю: у нас двадцать лет своей истории, она не хуже скаутской. Чего же мы будем ради заграничных поездок от всего своего отказываться... У вас, говорю, и барабаны другого цвета, а Костик свой барабан ни на какой другой никогда не променяет. А мы куда же без Костика?..
– То-то же, – сказал Костик. И устроился поудобнее.
– А он что, этот их руководитель? – поинтересовался Дим.
– А этот скаут-мастер... с ехидцей, хотя и вежливо: "Что ж, верность принципам достойна уважения. Даже если это верность организации имени Владимира Ильича..."
– Давно уже нет этого имени у пионерской организации, – сказала Маринка. – Проснулись...
– Сейчас на пионеров каждый, кому не лень, бочку катит, – вмешался Дим. – На кавээнах здоровые обалдуи обрядятся в шортики, салютуют и кривляются... Будто раньше в отрядах только и делали, что маршировали да песни про Ленина разучивали...
Корнеич ногой-протезом поправил тлеющие сучья, привалился спиной к сосне. Объяснил с досадой:
– Все уже позабыли, что были разные отряды. Одними классные руководительницы командовали, по минпросовским планам, другие за свою самостоятельность воевали. В хороший отряд ребята шли для того, чтобы товарищей найти, чтобы локоть к локтю... Помню, как я сам в пионеры вступал. Хором говорили заученные слова: "Я, такой-то, вступая в ряды пионерской организации имени Ленина..." Я об этом имени, что ли, думал тогда? О Павлушке Снегиреве думал, который слева от меня стоял, и о Васильке Рыбалкине, который справа... А был у нас Димка Соломин, так он чуть все торжество в школе не нарушил, когда его принимали. Должна была ему какая-то девчонка галстук повязывать, а он заупрямился. И к Сереге Каховскому: "Повяжи мне ты. Потому что ты мой друг..." Тот потом рассказывал, что у него аж горло перехватило...
Дим деликатно спросил:
– А он, Сергей Евгеньевич-то, пишет что-нибудь?
– Пишет. Обещал в севастопольском "Военторге" якоря и пуговицы для нашей новой формы раздобыть... Кстати, я помню, как в те дни Серега сцепился со своим дядюшкой. Тот все укорял его за стремление влезать во всякие свары. А Серега ему: "Вы же всегда на Ленина ссылаетесь. А разве Ленин учил в углу отсиживаться?" Дядюшка и усох... Для нас Ленин был тогда вот таким оружием. В случае чего можно было сказать классным дамам и завучам: "Говорите, что Ленин учил смелости и честности, а от нас чего требуете? Чтобы не пикали и не высовывались!.." Потому что никто ведь не знал тогда ни о концлагерях еще в девятнадцатом году, ни о том, как расстреливали казаков целыми станицами, как священников уничтожали... И был для всех Ленин не человеком, а вроде как символ для отдания почестей. Салютнули и пошли, а чувств никаких... Чувства были, когда наши барабанщики начинали играть наш сигнал – "марш-атаку"...
– А правда, что Ленина скоро в земле похоронят? – вдруг спросил Муреныш.
– Может, и похоронят, – вздохнул Корнеич. – Правильно было бы. А то чего хорошего? Умер человек, а на него чуть не семьдесят лет все глазеют, как в музее... Судить можно по-всякому, а лежать в земле каждый имеет право.
Маринка сказала полушепотом:
– Бабушка говорит, что душа не может успокоиться, пока человека не похоронили...
– А душа, она по правде есть? – полусонно спросил Костик.
– А как же! – храбро заявил Не Бойся Грома. И вдруг смутился, засопел.
Сержик Алданов опять вспомнил про скаутов:
– К ним теперь каждую неделю священник ходит, занятия ведет по религии...
– Ну и что такого?.. – тихо отозвался поэт Игорь Гоголев (который И-го-го).
– Да ничего, – сказал Алданов. – Только у них эти занятия обязательные. А разве можно такое в обязательном порядке?
Корнеич проговорил со вздохом:
– Если нам тоже священника звать, то какого? Пришлось бы и православного, и лютеранского, и раввина. И муллу, наверно... да, Муреныш?
Тот не удивился вопросу:
– Мамка и отец неверующие. А бабушка верит в Аллаха и меня учила...
– Вот видите, – сказал Корнеич.
Вечный рисовальщик Сенечка Раух, черкая в своем блокноте угольком, сказал тихонько, но уверенно:
– Главный Бог у всех религий все равно один...
Корнеич поднялся:
– Пусть он нам и поможет. Осень протерпеть да зиму продержаться. А весной заложить новый корабль... Солнце садится, ребята.
В конце сентября по чьему-то умному указу время передвинули еще на час назад по сравнению с привычным, и теперь закат начинался совсем рано. Помидорного цвета солнце среди стволов опускалось в озеро, раскатало по воде огненную дорожку.
– А ну-ка, народ, встали, – серьезно сказал Корнеич. И все быстро, привычно выстроились на лужайке в шеренгу. Корнеич попросил: – Ну, трубач, давай прощальный сигнал.
И Кинтель, ощутив холодок волнения, снова проиграл свои четыре ноты. А остальные стояли, подняв над правым плечом сжатый кулак, – это был давний салют независимых отрядов. Так "Тремолино" проводил в этот вечер солнце...
С той поры прошло еще три недели. Наступили осенние каникулы. В "Тремолино" увлеклись новым делом. Вернее, забытым старым. Решили нарисовать на нескольких листах фантастическую морскую карту и возродить давнюю игру с корабельными боями и путешествиями. Крошечные и очень аккуратные модельки парусников для такой игры хранились у Корнеича на отдельной полке. Десятка два. Эти кораблики в свое время смастерили мальчишки "Эспады", "Мушкетера" и "Синего краба".
Рисовать умели не все. Работали в основном Сенечка Раух, Салазкин, Дим и сам Корнеич. Остальные больше давали советы и были, как говорится, на подхвате. Из Кинтеля художник был как из слона балерина. Но зато Кинтель притащил в "Сундук Билли Бонса" альбом с копиями средневековых портуланов и старую карту полушарий, за что удостоился всяческого одобрения.
В тот вечер засиделись до девяти часов. Кинтель возвращался домой один: Салазкин отбывал дома карантин после ангины.
Падал редкий щекочущий снежок, уютно светились фонари, и Кинтель решил пару автобусных перегонов пройти пешком. Хорошо было и спокойно, спешить не надо, деду Кинтель позвонил, что немного задержится, не волнуйся, Толич. И шагал теперь, отдувая от лица снежинки...
Хорошее настроение испортила встреча с отцом. Тот вышел из дежурного гастронома на Садовой. При свете витрины отец и Кинтель узнали друг друга.
– Привет, Данилище...
– Здравствуй, – неохотно сказал Кинтель.
– Гуляешь?
"Ну, начинается пустословие!"
– А чего не гулять? Это у вас, у взрослых, праздник Великого Октября отменили, а у нас все равно каникулы.
– Вот и заглянул бы хоть разок в каникулы к отцу...
Кинтель пожал плечами:
– Ты же на работе целый день.
– Ладно отговариваться-то, – добродушно пожурил его Валерий Викторович. – К Лизавете-то, к мачехе бывшей, заходишь небось, а меня вовсе позабыл.
– Я не к ней, а к Регишке... А у вас в общежитии вахтерша такая... Один раз я сунулся, а она сразу: "Куда прешь!"
Отец и тетя Лиза разошлись еще в конце сентября. Возиться с разменом отец не захотел, оставил квартиру бывшей жене и ее дочке. Родное СМУ-11 дало ему комнату в общежитии. Обещали подыскать потом и постоянное жилье, хотя бы в коммуналке. Ценили специалиста.
Кинтель и отец пошли вдоль освещенных магазинов. Насчет вахтерши отец сказал:
– Ты, наверно, не объяснил ей, к кому идешь. Иначе бы сразу пустила, меня там уважают.
Кинтель промолчал. Потому что про вахтершу он соврал, в общежитие никогда не заглядывал.
Отец вдруг предложил:
– Слушай, а может, переедешь ко мне, а? Комната большая. А если вдвоем будем, глядишь, и однокомнатную выделят, предприятие скоро дом сдает.
Кинтель сказал прямо:
– Для того я тебе и нужен?
– Ну зачем ты так? Я же по-хорошему...
Уже иначе, тихо, Кинтель спросил:
– А для чего я тебе тогда?
– Ну... сын же ты. Почему не пожить с отцом? Да и мне одному как-то... паршиво порой.
– Зачем разводился-то?..
– "Зачем"... Так просто не скажешь, жизнь штука сложная.
– Сам ты себе сложности придумываешь... А от деда я не пойду. Чего ради? Я с ним с самого младенчества...
– Ну и что же, что с младенчества?.. Я с ним тоже с младенчества, а теперь он про меня и слышать не хочет.
– Почему же, – примирительно сказал Кинтель. – Он часто вспоминает. Переживал тогда, как вы там с тетей Лизой...
– Подумаешь, "переживал"! – внезапно ожесточился отец. – Проку-то от его сентиментальности... А тебя он, думаешь, почему пригрел? Потому что ты у него за домработницу!
– Не говори чего не надо-то, – пренебрежительно отозвался Кинтель.
– А ты от правды не отмахивайся. Поразмысли и сам поймешь... Ты вот меня поддел, будто я тебя ради квартиры зову. Ну и что? Стали бы вместе жить, а потом квартира тебе досталась бы... У меня, между прочим, предынфарктное состояние было...
– Ну ты даешь!
– А чего, трезво смотреть надо... Деду, между прочим, именно благодаря тебе новая-то квартира светит, поскольку дом на снос. А иначе бы: получите, Виктор Анатольевич, комнату, поскольку вы одиночка, и будьте довольны...
– Неправда! По закону должны дать равнозначную площадь!
– Ха! Где они законы-то наши?.. А когда отец с Варварой съедутся, будешь ты им нужен как драный лапоть на трюмо.
Эти слова ощутимо кольнули Кинтеля. Потому что отец словно угадал его недавнюю тревогу. Правда, тревога та была минутная, полушутливая, но все-таки... И Кинтель опять разозлился:
– А если ты снова женишься, я вам буду нужен как что?
– Я? Женюсь?! Трижды одну глупость не делают.
Кинтель помолчал и вдруг спросил:
– Папа... А как узнали, что мама погибла?
– Что?.. – Отец малость растерялся. – Ну, как... Списки же были. Всех пассажиров. Тех, кто спасся, и тех... кого потом нашли... И кого не нашли... Я вплотную-то этим не занимался, мы ведь не жили уже тогда вместе...
– А она... точно погибла?
Отец глянул быстро, но без сочувствия:
– А что ты думаешь? Может, просто следы замела? Зачем?
– А иди ты... знаешь куда! – взвинтился Кинтель.
– Ну, ты!.. С отцом все же разговариваешь!
– А я на разговор и не просился, ты сам... Ладно, я пошел, вон автобус...
– Постой! Ну давай поговорим по-человечески!
– Мне домой надо! – И Кинтель побежал к остановке.
...Слова отца, что деду Кинтель нужен был ради выгоды, хотелось наглухо забыть. Потому что чепуха это! Но все же сочился эдакий яд сомнения. Домой Кинтель пришел хмурый.
Дед и тетя Варя увязывали последние пачки.
– Ну, явился работничек! – ворчливо обрадовалась тетя Варя. – Хоть к концу дела. А то мы без тебя умаялись.
– А чего маяться, – сварливо сказал Кинтель. – Еще и квартира никакая не светит, а вы шмотки упаковываете.
Дед разъяснил добродушно:
– Во-первых, кое-что светит. Во-вторых, всегда лучше делать хлопотливую работу заранее...
– Вы ее, работу, всегда отыщете, – буркнул Кинтель.
– Что-то отрок не в духе, – нерешительно заметил дед. И сообщил: – Регина звонила тебе, спрашивала, пойдешь ли с ней завтра в кино. Вроде бы ты обещал...
– Только ей я еще и нужен, – проговорил Кинтель и почувствовал, как заскребло в горле.
Дед и тетя Варя переглянулись. Тетя Варя спросила:
– Ужинать будешь? Пойдем, я на кухне все тебе поставлю.
– Сам управлюсь, – тихо сказал Кинтель.