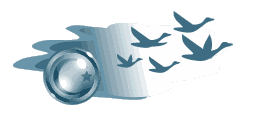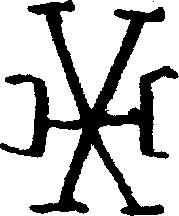Стекло и стебелек
Новичок появился в четвертом классе незадолго до летних каникул. Его привел директор по прозвищу Гугенот. Мальчишка был коротко стриженный, с ушами, похожими на ручки фарфоровой сахарницы. Гугенот ласково придерживал его за погон суконной курточки. Эти форменные курточки, как и береты со школьными эмблемами, были объявлены необязательными два года назад. Теперь в них приходили на занятия лишь немногие. Считалось, что форму любят отличники, подлизы и прочий недостойный уважения народ. А чтобы явиться на уроки в такой "мундерюге" теплым летним утром, надо быть "вообще без шарика в обойме". Но мальчик и его родители, видимо, не знали здешних нравов. Решили, наверно, что в день знакомства с новой школой надо соответствовать правилам этой школы во всем. Вот мама и обрядила новичка в купленную накануне форменку здешнего колледжа.
Расчетливые мамы все покупают детям "на вырост". Слишком широкая и длинная куртка выглядела на щуплом новичке достаточно нелепо сама по себе. И тем более — в сочетании с куцыми "штатскими" штанишками, косо и беспомощно торчащими из-под суконного подола. И с белыми девчоночьими башмачками и канареечными носочками. И с аккуратной сумкой для книг, какие носят только первоклассники. Нормальные люди толкали учебники и тетради в пакеты с портретами киношных суперзвезд или в холщовые мешки с эмблемами знаменитых фирм и авиакомпаний. А это чучело...
Мальчик шагнул и тихо, но отчетливо сказал:
— Здравствуйте.
— Му-уля! — радостно выдохнули сразу несколько человек. И Корнелий понял, что пришел срок его избавления. Ибо по неписаным законам в классе мог быть только один муля.
А мальчик пока ничего не подозревал. Уши доверчиво топорщились, серые глаза безбоязненно смотрели из-под круто загнутых ресниц, верхняя губа была чуть вздернута под маленьким носом "утиной" формы. Два передних зуба молочно блестели, придавая лицу выражение постоянной полуулыбки — доброй и слегка удивленной.
— Я уверен, Альбин, ты подружишься с новыми товарищами, — ровно сказал директор, и все знали, что уверенности в этом у Гугенота нет. Все, кроме новичка. Альбин, глянув вверх на директора, потом на класс, простодушно шмыгнул утиным носиком и улыбнулся пошире. Ответил:
— Я тоже.
В том смысле, что он тоже уверен, что подружится.
Класс развеселился еще заметнее. Но Пальчик с задней парты приказал:
— Ш-ша, дети. — Видно, не хотел раньше времени настораживать новичка. И урок живой природы у вечно испуганной и слезливой мадам Каролины прошел на сей раз удивительно мирно.
На перемене мальчишки обступили Альбина.
Нет, он оказался не такой уж простофиля. Хотя все вели себя сперва сдержанно. Альбин почти сразу понял, что дело нечисто. По глазам, видно, понял, по первым, со скрытой ехидцей заданным вопросам. Отвечал коротко и настороженно. Поглядывал как пойманный бельчонок.
Кто-то уже с деланной заботливостью поправлял на нем курточку, сдувал невидимую пыль, кто-то пригладил макушку.
— А это что у тебя такое красивое? — Пальчик с приторной улыбочкой потянулся к значку на куртке Альбина. Значок и правда был хорош: выпуклая хрустальная линза размером с трехгрошовую монетку, в тонкой серебряной оправе, а под стеклом, на темно-васильковом фоне, — золотая буква "С" и крошечная звездочка. Похоже на старинную мусульманскую эмблему.
— Не тронь, это о л о, — быстро и насупленно сказал новичок.
Рука Пальчика замерла в дюйме от значка. Что бы там ни случалось между мальчишками, как бы ни враждовали они, но был один закон, который никто нарушать не смел: то, что объявлено "оло", трогать нельзя. Это как "табу" у древних туземцев. Конечно, если какой-нибудь дурень объявит "оло" дрянную игрушку, модную обновку (чтобы не лапали!) или свою собственную персону, чтобы защитить себя от насмешек и тумаков, — этот номер не пройдет. Мальчишечий народ чутко определял, где подлинное "оло". Например, были "оло" разные талисманы, крестики у ребят из христианской общины, штурманский планшет у Владика Руцкого — память об умершем деде... И сейчас все чутьем поняли, что значок у новичка — настоящее "оло". В настороженном молчании появилось что-то вроде уважения. А секундная нерешительность Пальчика еле-еле, но поколебала его авторитет. Опытный Пальчик это ощутил тут же. И среагировал:
— Ах, извини, я не знал... А это что у тебя? Надеюсь, не "оло"? — Он ткнул в подол куртки. Альбин нагнулся. И Пальчик ловко ухватил нос новичка, сжал крепкими костяшками.
Конечно, Альбин замычал, запищал, закричал гнусаво, задергался. Затопал новенькими туфельками! При общем веселье. А Пальчик водил его голову за нос туда-сюда и тонким "дошколячьим" голоском напевал только что придуманное:
"Оло" — не "оло",
Муку намололо,
"Оло" — не "оло",
Башку раскололо...
Альбин сильно дернулся, освободился и, не разгибаясь, ударил Пальчика головой в грудь. Тот отлетел. Но на ногах удержался. И не взъярился, не врезал тут же нахалу. Подышал, покачал головой и сказал тоном огорченного директора колледжа:
— Вы видели, дети? Только переступил порог класса и уже так себя ведет. Допустимо ли такое? А?
Все обрадованно завопили, что недопустимо. И выжидающе уставились на Пальчика. Тот сокрушенно вздохнул:
— Ступай на свое место, новичок. Я подумаю, как поступить с тобой. — Пальчик не торопил события. Главное, что начало было положено. Выражаясь по-научному, создан "казус белли" — повод для начала военных действий. Хотя едва ли можно считать военными действия, когда три десятка человек безнаказанно изводят одного.
Все с того дня пошло по обычной программе. Новый ученик получил персональное прозвище — Утя — и в первую неделю полностью испытал, что значит быть мулей в четвертом классе государственного мужского колледжа города Руты.
Его редко били всерьез, хотя на серьезный отпор он был не способен (разве что доведут до отчаяния!). Интереснее было изматывать мулю понемногу. Щипками, дразнилками, "случайными" тычками, подложенными в портфель химическими "вонючками"... На мулю разрешалось даже ябедничать, тем более что считалось это "просто шуткой". Например:
— Мадам Кларисса, ученик Ксото хочет выйти, но стесняется попроситься!
— Ксото, в чем дело? Правда? Ну, ступай тогда...
— Да врет он! Никуда мне не надо!
— Я не вру! Если не надо, тогда почему тут... — И сосед Альбина картинно зажимает нос. И все хохочут.
И Корнелий хохочет.
Первое время Утя ловился на обманное сочувствие. Стоит он на перемене в уголке, зыркает боязливо, и тут подходит кто-нибудь с заботливым, серьезным лицом:
— Утя... ой, извини, Альбин... Я смотрю, этот гнида Клапан опять к тебе приставал? Что ему надо?
Утя вскидывает глаза — в них радостная искорка надежды: неужели нашлась хоть одна добрая душа?
— Ты его не бойся, — ласково учит "доброжелатель". — Если он делает вот так... — следует рассчитанный удар "под чашечку", и Утя стукается коленками о паркет, — то ты его вот так! — И "наставник" помусоленным пальцем ввинчивает в Утино темя болезненную "грушу".
— У, гад! — Утя вскакивает, левой рукой держится за ногу, правой беспомощно замахивается на обидчика.
Тот отпрыгивает, сокрушенно ищет справедливости у собравшихся:
— Вы видели? Я ему помочь хотел, а он...
— Нехорошо, Утя, — говорит Пальчик. — Почему ты такой агрессивный? Ну-ка, встань прямо, когда с тобой разговаривают. — Он берет Утю за ухо, заставляет отпустить ногу и распрямиться. На ноге Ути — синячище, в глазах — жидкие бусины. Он опять безнадежно замахивается...
— Что здесь происходит? — Этот строгий голос будто откуда-то с высоты. Но Пальчика "с катушек не собьешь".
— Господин дежурный учитель, мы сами не понимаем: он сперва на всех наскакивает, а потом сам же плачет! Он, наверно, нервный...
— Разойдитесь немедленно! И чтобы такого больше не было!
— Хорошо, господин учитель...
Утя смотрит на недругов с бессильной ненавистью. Нет, он ничего не скажет дежурному наставнику, не будет объяснять правду. И не потому, что опасается прослыть не только слабаком, а еще и ябедой, терять ему все равно нечего. И уж, конечно, не потому, что жалеет своих мучителей или боится мести. Тут что-то другое... Что?
Внешне Корнелий относился к Уте как все. Щипал и подтыкал, хохотал над его беспомощными попытками защититься. И над наивными вопросами: "Что я вам сделал? Ну, объясните же, наконец, по-человечески, что вам от меня надо?" Как ни верти, а все-таки приятно было, что не ты теперь самый безответный и слабый. Что есть в классе личность, которую можно обхихикать и пнуть и не получить сдачи. И Корнелий порой делал это. Не только ради удовольствия, но и для того, чтобы видели, что он уже не муля.
Впрочем, инстинкт подсказывал, что перегибать палку по отношению к Уте Корнелий не должен. А то найдутся умные люди и заметят: "Во, как завыступал Дыня! Давно ли на четвереньках бегал, а теперь осмеле-ел... С чего бы?" Возьмут да и отступятся от Ути, решив, что прежний муля удобнее нового.
Поэтому случалось, что Корнелий порой незаметно уходил из толпы, веселившейся вокруг несчастного Ути. Уходил еще и потому, что за желанием насладиться своей (какой-никакой) властью и силой шевелилось сочувствие к этому неприкаянному Альбину. Ведь сам досыта нахлебался такой жизни! И бывало, что, встречаясь с Утей взглядом, Корнелий отводил глаза.
Свою форменную курточку Альбин больше не надевал, приходил на уроки в обычной клетчатой рубашке. Но значок носил по-прежнему. Правда, прицеплен был значок так, что его прикрывала лямка штанов. Над этими лямками (на спине крест-накрест, на груди перекладинка, на животе — пуговицы, как у первоклассника) тоже хихикали. Но не сильно. Все понимали, что, надень Утя хоть самый взрослый и мужественный костюм, все равно он останется мулей. Даже еще больше будут дразнить. И сам Альбин это, конечно, понимал.
И все же (Корнелий смутно это чувствовал) был в Альбине какой-то стерженек. Скрытое упрямство или гордость. Он никогда не прятался от тех, кто над ним издевался. Притиснется спиной к стенке и ждет...
Наверное, из-за этого неумения убегать от опасности он и не отказался от должности "котельщика".
В конце учебного года четвертый класс готовился к традиционному походу по окрестным лесам. Конечно, то, что ожидалось, трудно было назвать настоящим походом, просто двухдневная экскурсия с ночевкой в благоустроенном пансионате "Оранжевые скалы". Но предполагалось несколько привалов сделать в лесу и готовить еду из собственных припасов. Учитель гимнастики, который занимался подготовкой экспедиции, сказал:
— Ну, а кто будет котельщиком? Дело ответственное. Выбирайте надежного человека.
Все понимали, что дело не только ответственное, но и муторное: отвечать за продукты и посуду, следить за варевом, а главное — таскать на себе гулкий котел, хотя и не тяжелый, из желтого ретросплава, но громоздкий и неудобный. Да еще и чистить его после каждого привала.
Все притихли, упрашивая судьбу обойти стороной. И в этой тишине Пальчик солидно предложил:
— У нас Альбин Ксото самый добросовестный. Выберем его.
Все возликовали. Все вскинули руки, голосуя за самого добросовестного. Альбин заметно побледнел. Он сразу понял, чего ему будет стоить это "доверие". И все же, когда учитель спросил, согласен ли Альбин, тот встал и молча кивнул, глядя поверх голов. Класс опять весело загудел, предвидя массу развлечений. Но смолк при грозном "ш-ша" умного Пальчика.
Наверно, учитель о чем-то догадывался. Но, скорее всего, придерживался привычной мысли: "В своих ребячьих делах дети разберутся сами, взрослым лишний раз вмешиваться не стоит". Однако он заметил:
— Должность эта нелегкая. По-моему, нужен помощник. А?
Опять четвертый класс притих. А Корнелия словно толкнуло: или страх, что сейчас назовут его и лучше уж самому, или шевельнувшееся сочувствие к Альбину. А может, и злость какая-то — на судьбу, на злыдней одноклассников, на свою затюканность. Он встал:
— Давайте, буду я...
Все, конечно, опять злорадно загоготали, послышалось даже: "Муля на муле, мулей погоняет..." И снова остановил их Пальчик. А Корнелий поймал на себе благодарный взгляд Альбина. И сердито отвел глаза. По правде сказать, он жалел уже о своем секундном благородстве.
И оказалось, не зря жалел!
Альбин в поход не пошел. В школу сообщили, что он заболел, лежит с температурой. И Пальчик хмыкнул:
— Температура! Ладно. Дыня и один справится, он у нас старательный.
Что вынес Корнелий за те два дня, можно догадаться. Но вынес, черт возьми! Глотая слезы, огрызаясь и даже нарываясь на драки с удивленными таким "Дыниным психозом" одноклассниками, он зло и упрямо тянул свою лямку до конца. Не бросил проклятый котел и не пожаловался учителю. А в конце похода, когда подлый Клапан стал опять привязываться к Корнелию, Пальчик вдруг дал своему адъютанту хлесткую, как выстрел, плюху.
— Ты небось только жрал, а Дыня за всех посуду драил! Убью, бактерия... — А Корнелию сказал: — Мы Уте потом ноги повыдергаем. Слинял от похода, мамина курочка, на тебя все взвалил. А ты ничего, жильный.
От такого признания внутри у Корнелия растеклось радостное тепло. Даже в глазах защипало. И он сказал с хрипотцой:
— Я с ним сам разберусь, с дезертиром.
Но никакой злости на Утю у Корнелия не было. Вроде бы кипел от яростной досады, а в глубине души понимал: вовсе Альбин не дезертир. Если не пришел, значит, в самом деле не мог.
После похода начались каникулы. Сперва Корнелий поехал с родителями в пансионат на Птичий остров, а затем они сняли дачу на окраине Руты.
Здесь была своя ребячья компания, раньше Корнелий никого не знал. Никого, кроме Альбина. Семейство Ксото жило на даче в соседнем квартале.
Увидев здесь Альбина первый раз, Корнелий испытал тяжкое смущение, даже испуг. А Утя обрадовался.
Впрочем, он был здесь никакой не Утя. Его звали Алька, а чаще Халька или Хальк. И он был равный среди равных.
В этой дачной вольнице и не пахло нравами государственного мужского колледжа. И не было никого, похожего на Пальчика. Случалось, что ссорились и даже дрались, но главные мальчишечьи законы были прочны: двое на одного не нападают, слабого не дразнят. Конечно, над боязливостью и неловкостью смеялись, но посмеются и забудут. Здешний ребячий мир снисходительно прощал недостатки своим питомцам. Наверно, потому, что в каждом жило ощущение свободы и беззаботности. Лето теплое, небо чистое, лес и озеро ласковые, игры веселые. И нельзя идти против природы, травить жизнь страхом и обидами.
Увидев ребят и Альбина среди них, Корнелий растерянно встал посреди аллеи. Но Альбин глянул ясно, беззлобно и сказал мальчишкам:
— Это Корнелий, мы в одном классе были. — Потом спросил: — Ты, значит, тоже здесь поселился?
— Ага... — неловко сказал Корнелий.
— Ну, пошли! — Альбин стукнул о землю красно-желтым мячом. — Мы в пиратбол на берегу играть будем. Знаешь такую игру?
Вечером они шли домой вдвоем, и Альбин, глядя под ноги, вдруг сказал, негромко так:
— Ты, может, думаешь, будто я нарочно тогда в поход не пошел, с испугу?
Корнелий изо всех сил замотал головой:
— Не, я знаю, что ты болел!
— Тебе, наверное, досталось там...
— Ну и черт с ними! — Корнелий мужественно прищурился.
— Дикие какие-то, — почти шепотом проговорил Альбин. — Я так и не понял: что им надо? Все на одного.
— Это Пальчик всех заставляет... — пробормотал Корнелий. И тоже стал смотреть под ноги.
— Нет, — вздохнул Альбин. — Все какие-то... Если бы Пальчик подевался куда-нибудь, они бы другого нашли.
Альбин говорил "они", как бы отделяя Корнелия от остальных, от класса. И Корнелий радовался этому, хотя от стыда покалывало щеки.
Значит, Альбин понимал, что он, Корнелий, зла ему не хотел? Может, и не помнил даже, как Дыня вместе с другими потешался над новичком? Нет, помнил, конечно, только чувствовал, что Корнелий тянется за другими от собственной беспомощности.
Альбин вдруг запрыгал на одной ноге, а другую поджал, отколупывая от босой ступни вдавившийся камешек. Потом быстро глянул на Корнелия из-за голого коричневого плеча.
Корнелий насупленно сказал:
— Ты теперь уже не вернешься в колледж, да?
— Почему же? — Альбин встал на обе ноги, наклонил голову набок. — Я вернусь. Только... я теперь так им не дам с собой. Я тогда не знал, а теперь знаю.
— Что знаешь? — Корнелий опять почему-то смутился.
— Как жить, знаю, — просто ответил Альбин. — Я решил.
Он был вроде бы и прежний Альбин, и в то же время другой. Без вечного ожидания опасности в глазах. Веселый. Открытый.
Он бегал босиком, все в тех же штанах с пуговицами на животе и без карманов, но рубашку не надевал, лямки на голом теле. А на лямке — все тот же синий значок. Откуда и зачем этот значок, Альбина не спрашивали — "оло" есть "оло". Волосы у Альбина выцвели и отросли, сам он стал выше и еще тоньше, ловкий, быстрый, загорелый.
Когда первый раз пошли вместе купаться и Альбин, дернув плечами, сбросил лямки, Корнелий засмеялся:
— У тебя буквы на спине и на пузе...
Незагорелые следы от матерчатых полосок и в самом деле были как буквы: на спине "X", спереди — "Н".
Засмеялся и Альбин:
— Ну да! Я их нарочно загаром не закрашиваю! Потому что это мои инициалы.
— Как это?
— Ну, первые буквы имени и фамилии. Если латинским шрифтом...
— Но у тебя же первая — А...
— Не-е... Произносится будто А, но пишется... вот так! — Он присел и пальцем на сыром песке у воды вывел:
HALBIEN ХОТО.
"Вот почему — Хальк", — запоздало догадался Корнелий.
А коричневый Альбин (Алька, Халька, Хальк) отступил в озеро и, выгнувшись, нырнул спиной. Только ноги мелькнули...
...Старший инспектор Альбин Мук все говорил, говорил. Про жену рассказывал, про службу в линейном уланском корпусе ("Ну, а дальше-то что? Торчу вот тут теперь. А зачем все?"). Корнелий кивал, иногда перебивал, отвечал шумно, пытался рассказать про Клавдию: она каждый год развлекается на Побережье, а он света белого не видит, вкалывает, чтобы дом был как у людей. Вот пускай теперь покрутится одна.
Они подливали друг другу, звякали заляпанными стаканами, плакались, а позади этой пьяной мути, позади притихшего, но неусыпного страха в памяти Корнелия разворачивались ясные и подробные воспоминания.
...Был потом еще один разговор о латинских буквах... Вообще-то книг с латинским и славянским написанием выходило мало, обучение в школе шло на основе современной линейной печати. Но старые шрифты знать полагалось, их учили на уроках истории и чтения. А у Альбина, видно, была какая-то особенная привязанность к старине...
Однажды они сидели вдвоем на недостроенных дощатых мостках лодочного пирса. День стоял нежаркий, был уже конец августа. Стеклянно шелестели стрекозы, искрились крылья. Пахло свежими стружками, они желтели среди примятой травы. Пирс тянулся от прибрежной улицы, через пляж, и кончался над водой. Корнелий и Альбин сидели ближе к улице, где песка еще не было, а росли подорожники, кашка и одуванчики.
Просто так сидели. Ласково, без прежней жгучести, солнце грело плечи. Альбин дотянулся ногой до крупного, как электролампочка, пушистого одуванчика, уцепил пальцами и дернул стебель. Взял в руку, подержал перед лицом. Корнелий не удержался — сунулся и дунул. Альбин засмеялся, щелкнул его стеблем по носу. "Парашютики" медленно плыли в безветрии. Альбин оторвал облетевшую головку, растянул стебель в прямую линию, глянул сквозь него, как сквозь тонкий-тонкий телескоп, вверх.
— Неужели что-то видно? — лениво спросил Корнелий.
— Не-а... Соку внутри много. А вообще-то, говорят, если в очень тонкую трубку смотреть, можно увидеть в дневном небе звезду.
— Ты видел?
— Нет, — вздохнул Альбин. — Я пробовал. Взял макарону, совсем прямую, и глядел, глядел в небо. Оно там, в маленьком кружочке, совсем темно-синее, потому что солнечный свет в трубку не попадает... И наверно, звезду можно было увидеть, просто она не попалась...
— А зачем это? — сказал Корнелий. Получилось глупо, со скучным зевком.
Альбин глянул удивленно и даже чуть обиженно. Повел шоколадным плечом.
— Ну, интересно же.
Они были к тому времени крепко дружны. Корнелий ревниво и чутко переживал, если случалась хотя бы чуть заметная размолвка или даже просто намек на непонимание. До той поры не дарила судьба Корнелию настоящего друга, с которым всегда можно быть равным и откровенным. А тут — такая вот радость: Альбин, Алька, Хальк... По вечерам, в постели, Корнелий порой утыкался в подушку, замирал от теплой радости, что завтра опять увидит Альбина... На пластмассовой ручке складного ножа (подарок отца) Корнелий выцарапал иероглиф — сплетенные инициалы Альбина Ксото:
Он сделал это украдкой, томясь непонятным смущением, и потом ножик никому не показывал...
Сейчас Корнелий вмиг встревожился, что Альбин заподозрит его в равнодушии к звездам. Что появится в их дружбе трещинка. Он поспешно сказал:
— Это, конечно, интересно. Только в трубку ведь можно всего одну звездочку увидеть, а это... ну, она будто потерянная, оторванная от остальных. И не знаешь, чья она. По-моему, когда ночью на созвездия смотришь, как-то интереснее. Я тогда еще всякие опыты делаю.
Капельки обиды растаяли в глазах Альбина.
— А что за опыты?
Стараясь откровенностью совсем загладить свой промах, Корнелий признался:
— Я иногда ночью на подоконник сяду и смотрю. И всякие знакомые созвездия, Медведицу там и другие, будто разбираю на части и новые строю, по-своему. Например, старинный Паровоз или Дон-Кихот и мельница...
Боже мой, ведь в самом деле было такое! И на звезды смотрел, и строил созвездия, и рассказывал об этом лучшему на свете другу. И стояло доброе ко всем людям лето, искрилось озеро, звенели стрекозы... Где это все? Почему вокруг грязно-белые стены тюремной конторы и мутно глядящий, слезливо потрошащий свое бытие старший инспектор Мук? Он, икнув, говорит:
— Я тогда и плюнул: "А пошла ты, говорю, знаешь куда..." Слышь, дружище, давай еще по вот столько...
Альбин (не этот, с бесцветной рожей и прилипшей к подбородку морской капустой, а настоящий) слушал про созвездия, не мигая. И Корнелий, радостный от его внимания, торопился рассказать дальше (теперь ему вспоминается, что на губах даже лопались пузырьки):
— Я, когда придумаю новое созвездие, сразу между звездами как бы струны натягиваю. Ну, чтобы контур получился, рисунок. И они будто на самом деле есть, эти струны. Натянутые в космосе. Черные, невидимые, и дрожат все время. И по ним от звезды к звезде можно путешествовать на звездолете. Он будто надевается на эту струну, и в нем от ее дрожания — энергия. И можно скользить, как по проволоке... Ну, знаешь, если на тугую нитку бусину наденешь, она ведь тоже двигается, когда нитка вибрирует... Видел? — Корнелий облизал губы и передохнул.
В глазах Альбина светилось понимание. И нетерпеливое желание что-то добавить. Пока Корнелий говорил, Альбин кивал, щелкал себя стебельком по коленке и приоткрывал рот, словно собирался перебить. А сейчас быстро сказал:
— Я знаю, я тоже про это думал: про линии между звездами. Только у меня это не струны, а грани зеркал...
Корнелий заморгал, стараясь понять.
Альбин проговорил уже спокойнее, но непонятно — будто не Корнелию, а себе одному:
— Черные зеркала пространств... — Потом опять быстро глянул на Корнелия: — Ну вот, представь. Каждое созвездие — это будто рамка для громадного зеркала. И они — эти созвездия и зеркала — в космосе по-всякому пересекаются... — Он поднял прямые твердые ладошки, так и этак стыкуя их ребрами. — Понял?.. А линия между звездами — это как раз стык таких зеркал...
Корнелий уже начал ухватывать суть, но Альбин постарался объяснить еще нагляднее. Он прыгнул с мостика и поднял из травы два крупных осколка оконного стекла (наверное, этими стеклами строители зачищали для пущей гладкости деревянную мачту у края пирса).
— Вот смотри... — Ровный край одного осколка Альбин приставил к плоскости другого. — Так они пересекаются. А здесь, на стыке, — как бы ребро кристалла... Мне это еще давно придумалось, когда папа рассказывал про теорию Космического Кристалла.
— А что это такое?
— Это... есть ученые, которые считают, будто вся Вселенная — громадный кристалл. Очень сложный. В нем бесконечное число граней...
— Зеркал?
— Ну... вроде бы. Только с этими учеными мало кто соглашается, их даже запрещают.
— Почему?
Альбин пожал плечом, подхватил соскользнувшую лямку, сказал со взрослой ноткой:
— Это труднообъяснимо. Сейчас ведь многое запрещают...
Тень какой-то неведомой Корнелию тревоги коснулась Альбина. Чтобы прогнать ее, Корнелий быстро проговорил:
— Мне как-то непонятно... — К тому же ему и в самом деле было непонятно. — Вот эти зеркала... Они — что такое? Они по правде есть? Такие громадные?
— Ага, — выдохнул Альбин. — Бесконечные.
— Но тогда как?.. Вот если звездолет полетит... Он же разобьется! Или из них осколков наделает. И пробоины!.. А в пробоинах — что?
Корнелию представилось ясно, как стремительное веретено звездолета врезается в звенящие исполинские стекла и вспыхивает белым огнем катастрофы. Вспышка отражается в медленно падающих (куда?!) гигантских осколках черных зеркал. А в пробитых дырах — еще более черная, беззвездная пустота... Может, это и есть — черные дыры?.. Загадочным холодком Вселенной дохнуло на Корнелия. Будто и впрямь из черной дыры космоса.
Альбин, стоя в траве, животом лег на мостки, уткнулся в доски локтями, подпер щеки ладонями. И, глядя перед собой, сказал:
— Это же не стеклянные зеркала, не плоские. Мне папа объяснял. Каждое такое зеркало — оно целое пространство, объемное. Ну, такое же, в каком мы живем. И Космический Кристалл — он весь из таких пространств, он очень сложный. Самая большая сложность — как научиться из одного пространства в другие попадать. А если бы простое зеркало, тогда и думать нечего. Это запросто.
Корнелий опять представил космический крейсер, врезающийся в черные зеркала пространств.
— Ну уж, запросто! Все поразбивались бы.
— Да нисколько. Вот, смотри.
Альбин подпрыгнул, опять сел рядом с Корнелием. Взял с досок стеклянный осколок и стебель одуванчика. Поднял их на уровень лица (на осколке зажглась искра). Стал медленно и ровно сближать их — стебель перпендикулярно стеклу. И...
Тонкий трубчатый стебелек тихо, но без задержки прошел насквозь через пластинку стекла!
Это было по правде! Это случилось в полуметре от изумленных глаз Корнелия. И Корнелий онемел, перестал дышать.
Но главное изумление (Корнелий помнил это и сейчас!) было не от самого чуда. Главной была мысль: как же Альбин, который умеет такое, позволил сделать себя мулей? Да если бы он показал мальчишкам такой фокус, те отвесили бы челюсти! Ходили бы за Альбином по пятам! Потому что в колледже ничто не вызывало такого почтения, как способность творить чудеса.
— Как ты это делаешь? — выдохнул наконец Корнелий.
Альбин пожал плечами. Протянул стебелек полностью. Осторожно положил на колено. А через стекло вдруг весело глянул на Корнелия. Золотисто-серым глазом.
— И даже дырки нет, — сказал Корнелий с каким-то жалобным удивлением.
— Ага, — улыбнулся Альбин.
— А как это получается? Научишь?
— Ну... я попробую. — Альбин перестал улыбаться. — Вообще-то этому трудно научить. Надо, чтобы человек сам. Надо чувствовать, как дрожат молекулы. И осторожно так двигать, чтобы одни молекулы проходили между другими. Я сам научился. Смотри, даже сок никуда не девался! — Он повернул стебелек. На месте обрыва белело колечко молочной жидкости.
Альбин ткнул стеблем коричневую кожу на левом запястье — отпечаталось крошечное белое полукольцо. Как буква "С". Альбин сосредоточенно ткнул еще два раза — две буквы "О". А потом — снова "С".
— Смотри, что получилось. Если латинскими буквами, то...
— Коок, — сказал Корнелий.
— Это пишется "Коок", а читается "Кук". По-английски... Правда, там на конце буква "ка" другая...
— Был такой мореплаватель, да?
— Был... — Альбин смотрел в сторону озера. На горизонт. — А потом его именем назвали суперкрейсер. Космический... "Джеймс Кук".
— Их же запретили строить!
— Ну да... Но сперва-то строили. Тогда и назвали... Мой папа там на строительстве работал. В группе навигацион ных систем... Ты думаешь, он всегда пивоваром был? — Горькая нотка проскользнула у Альбина.
Корнелий иногда встречал отца Альбина, инженера Ксото, который работал на местном пивоваренном заводе, налаживал там какие-то автоматы. Старший Ксото был молчаливый, сутулый, седоватый... Вот откуда его угрюмость! Сперва строил космолеты, а теперь...
— Хальк, а почему их запретили?
— Говорят, мешают стабильности. Многое ведь позапрещали...
— И их совсем разломали?
— Нет, огородили верфь, сказали: надо отложить до удобного времени...
— А! Значит, зонг?
Альбин кивнул.
Что такое "зонг", знали все мальчишки. "Законсервированные объекты научных групп". Зонги встречались повсюду: обнесенные забором с проволокой площадки и целые поля. За оградами прятались недостроенные лаборатории, буровые установки, ненужные теперь испытательные полигоны и прочие бесполезные объекты, из-за которых наука чуть не двинулась по ошибочному пути. Хорошо, что люди вовремя спохватились, им подсказала верную дорогу Главная Машина: цель общества — благополучие каждого человека, а не бесполезное рысканье среди отвлеченных проблем и "загадок Вселенной".
Но мальчишек мало занимала расшифровка этого названия. Само по себе оно — "зонг"! — звучало загадочно, как слова из фильмов о старинных путешествиях и тайнах: "Нью-Тесонг, Гонконг, бизон, муссон, бумеранг..." Ребячьи легенды разносили слухи о чудесах, которые происходят за глухими заборами зонгов. Там, говорят, можно было увидеть что угодно (даже планеты величиною с яблоко, летающие вокруг забытого фонаря) и встретить кого угодно: привидения, одичалых роботов, космических пришельцев.
Проникновение в зонг считалось одним из самых тяжких преступлений. За это — самое меньшее — выгоняли из школы. Но магнетизм тайны — штука посильнее страха. К тому же охранялись зонги так себе. И с некоторых пор для всякого пацана от девяти лет и старше побывать внутри ограды зонга считалось мерой высокой доблести.
...Был свой, местный зонг и недалеко от южной окраины Руты. Совсем близко от дачного поселка. Юркий Росик Натальский, блестя глазами-смородинами, рассказывал, что забор огораживает скважину, которую просверлили чуть не до центра Земли, а потом оставили. Если заглянуть в круглый бездонный колодец, можно увидеть звезды. Не наши, не знакомые, а других миров. Почему так, никто не знает. Из-за того, наверно, и прекратили бурить, испугались. А еще, если крикнуть в колодец, отзываются голоса. Не эхо, а настоящие, живые...
Без ночной вылазки не могло, конечно, завершиться то дачное лето. К такому приключению толкала вся логика мальчишечьей жизни. Спорили, обсуждали и наконец сговорились. ("Да там и бояться-то нечего! В прошлом году Крона и Антошка Рыжий лазили — говорят, запросто!" — "Сторожб только у входа, а в заборе две щели и подкоп, я покажу..." — "Если застукают — драпать в разные стороны и выбираться поодиночке. В темноте шиш кого поймают!")
Тощий Эрик Спица, что был в компании вроде старшего (не как Пальчик, а по справедливости и с головой), подошел к делу серьезнее. Сказал, что надо провести разведку. Надо взять фонарики, но светить ими только под самые ноги и сквозь тонкий лоскуток. Поесть побольше сахару, чтобы лучше видеть в темноте. В зонге держаться друг за дружкой, не шептаться, убегать (если придется) врассыпную, но каждому заранее знать путь отступления. А уж если не повезет кому, сцапают — говорить, что был один, про других молчать каменно. Насчет этого даже поклялись — сцепили руки над маленьким костром и сосчитали до десяти, хотя припекало почти нестерпимо.
И Корнелий, конечно, поклялся. И готовился к вылазке так же, как другие. Но в душе у него нарастало, нарастало предчувствие беды. Изнуряющее, лишающее сил.
Это вернулся страх, с которым Корнелий жил все школьные годы. Природная подлая боязливость, которая сделала его в классе мулей.
Здесь, этим летом, Корнелию казалось, что он стал другим. Не хуже остальных лазил на деревья, нырял с мостков, смело совался в общие споры, перестал ежеминутно ждать насмешек. Спасибо Альбину, он ввел его в ребячью компанию как равного. Хальке ребята верили, он был, можно сказать, любимцем. Видно, здешние пацаны разглядели его истинную суть. Она ведь не в нахрапистости и не в кулаках, которые только и уважались Пальчиком и его подлипалами...
Халька был — настоящий. Он был на все готов ради других. Он горячее остальных поддержал планы вылазки и готовился к ней весело и бесстрашно. И Корнелий делал вид, что готовится с той же радостью. Но внутри у него копилась злая досада на Альбина. Дурак!.. А если поймают? Не понимает, что ли, чем это грозит? Ну, дома врежут — это еще можно вытерпеть. А если — колония?
Чем дальше, тем яснее Корнелий представлял, как это будет. Крики, свистки, крепкие пальцы на воротнике (кричи, плачь, вырывайся — без толку!), кабинет Комиссии попечителей детства, белый лист приговора, вылезающий из щели черной Машины. Белые одноэтажные бараки исправительной школы (тогда еще были такие).
Они, мальчишки, просто не понимают, чем рискуют. И Альбин вроде бы умный, а тоже... Им — все игрушки! А Корнелий-то видит, чем это кончится! И заранее — страх до тошноты, до слабости в ногах.
Но ведь не объяснишь никому! Если поймут, что боишься, скажут: "Ну и сиди дома под кроватью, мамочкин герой!" И Альбин. Он, может, так и не скажет. Он, может, и пожалеет даже. Но прежним Халькой он для Корнелия больше не будет. И это, пожалуй, не менее страшно, чем колония.
Впрочем, Корнелий боялся уже не только результатов. Он боялся самой вылазки, того расслабляющего ужаса, который овладеет им (Корнелий знал!) перед забором зонга. Скорее всего уже там, у лазейки, он от боязни прижмется к земле и не двинется дальше.
Святые Хранители, что же делать-то?
Двое суток жил Корнелий в липком, расслабляющем страхе. И с трудом скрывал этот страх. Наступил день приключения. Утром Корнелий вышел в сад. У крыльца валялась деревянная рейка с торчащим гвоздем. Корнелий зажмурился...
...Потом он говорил себе, что на это нужна была тоже смелость. Пускай дезертирская, пускай такая смелость, с которой трусливый солдат отрубает себе палец, чтобы не идти в бой, но все-таки... Попробуйте вот так, с размаху, ударить босой ногой, чтобы гвоздь распорол ступню...
— А-а-а!.. Ма-ма!.. Ну кто здесь раскидал эти проклятые палки!
Он корчился на крыльце, обливаясь слезами боли и облегчения. Он ненавидел сейчас ребят, Альбина, себя и белый свет. И все же радовался, что ему так больно. В этом чудилось Корнелию искупление.
Под вечер, ковыляя с самодельным костылем, он пришел во двор к Эрику. С белой толстой муфтой на ступне. Жалобно кряхтя, рассказал про случайный злополучный гвоздь, про прививки, про то, как "режет, будто пилой, до сих пор".
Все его от души пожалели. В кои веки ожидается настоящее приключение, и тут такое невезенье у человека.
Альбин тихо погладил его по плечу. Сказал чуть виновато:
— Ничего, ты не горюй так сильно. Я тебе завтра все подробно расскажу. — Другие мальчишки деликатно отвернулись, а Халька отворачиваться не стал, когда у Корнелия потекло из глаз. — Ну брось, будут ведь еще в жизни всякие интересные дела...
Корнелий плакал, не скрываясь. Что это были за слезы? От стыда? От запоздалого сожаленья, что не попадет в таинственный зонг? От жалости к себе — из-за того, что вот такой он скверный и трусливый? От сознания своей ничтожности перед Альбином? От злости на всех и на всё? Черт его знает.
Назавтра нога распухла, и Корнелия оставили в постели. Перед обедом пришел Альбин. Поцарапанный, со сбитыми локтями. Серьезный. Рассказал, что сторожа заметили ребят. Может, какая-то сигнализация в зонге была. Кто-то закричал, засвистел в темноте, замахал фонарями. Мальчишки, как договаривались, — во все стороны! И никто, слава Хранителям, не попался!
Корнелий слушал, млея от ужаса. И от тайной радости ("Я же предвидел! Значит, не зря я..."). Он поморщился, чтобы напомнить, как болит нога, и спросил с хмурой сосредоточенностью:
— Но это точно, что никого не сцапали?
— Конечно! Мы потом все у Эрика собрались. Я самый последний пришел.
— Почему?
Альбин (он сидел на табурете у кровати) потрогал локоть, исподлобья глянул на Корнелия и признался:
— А я не сразу убежал. Я сперва в кустах замер, дождался тишины.
— Это ты правильно. Потом легче ускользнуть, да?
— Да я не для того, чтобы ускользнуть. — Альбин стесненно вздохнул. — Я хотел все же заглянуть в колодец.
— И заглянул?!
— Ага. Все стихло, а я пробрался. Там такой бетонный край, я лег животом. В глубине чернота и будто кто-то дышит холодом. — Он передернул плечами.
— А... звезды?
— Там не звезды. Там что-то такое, вроде отражения месяца в воде, когда она колеблется.
— Но ведь месяца-то не было!
— В том-то и дело. Да это и не месяц. Потом вода будто успокоилась, и это, желтое, то, что светилось, оно вроде сделалось как окошко. Ну, будто маленькое, домашнее такое окно в глубине горит. И рама как буква "Т"...
— А почему? Откуда оно?
Неулыбчивый Альбин пожал плечом, поймал упавшую лямку, сказал, будто оглядываясь назад, в ночь:
— Я и сам думаю: почему? Никто не скажет. Это же зонг. А долго я не мог смотреть, опять засвистели, я к забору. Туда, где подкоп.
— Главное, что спасся, — утешил Корнелий.
Альбин сказал тихо:
— Все равно это для меня плохо кончилось. Видишь? — Он оттянул на груди мятую лямку. — Значка-то нет. Зацепился где-то в кустах.
— Тю-у... — шепотом протянул Корнелий.
Он понимал: для Альбина значок — что-то очень важное. Недаром — "оло". Про "оло" не расспрашивают, но теперь Корнелий вспомнил золотую букву "С" со звездочкой и, догадавшись, не выдержал:
— Ой, а он у тебя оттуда? От "Джеймса Кука"?
— Ну да. Это папа подарил, когда со строительства приехал. Там такие значки только главным инженерам давали, они редкость... Да не в том дело, что редкость. Он у меня талисманом был. А если потерял — это к несчастью.
— Ну уж... — беспомощно сказал Корнелий. — Ты не верь в такое.
— А тут хоть верь, хоть не верь, все равно, — сумрачно отозвался Альбин.
...Он оказался прав: потеря значка принесла беду. И приметы были тут ни при чем.
"Я же не виноват, — говорил себе Корнелий. — Если бы я пошел с ним, еще хуже могло быть, могли поймать. Я все еще вон какой неуклюжий..."
Но ощущение, что Альбин потерял талисман из-за его, Корнелия, предательства, не проходило. Приближались школьные дни.
"Я буду теперь защищать его, — говорил себе Корнелий. — Пусть только кто-нибудь полезет! Самого Пальчика не побоюсь, в морду ему дам!" И он был почти уверен, что сделает это. Чтобы искупить свою недавнюю измену.
Но защищать Альбина не пришлось. В суете первых двух дней никто на Утю не обращал внимания... А на третий день, перед уроками, пришел в пятый класс директор Гугенот. Велел всем сесть и сказал речь:
— В последние дни каникул в охранной зоне у Южного дачного поселка случилось безобразное происшествие. Группа малолетних нарушителей проникла на запретную территорию и вызвала там тревогу. Конечно, никто из вас не мог быть в числе злоумышленников, я совершенно уверен в этом. — Гугенот вздохнул, потому что уверен не был. — Но, может быть, вы поможете расследованию этого возмутительного случая? На месте происшествия нашли вот это... — Гугенот раскрыл и поднял ладонь.
И Корнелий узнал это даже издалека. И другие узнали. И у сидевшего на передней парте Альбина побледнела тоненькая шея.
Все мертво молчали. Никто не пискнул "это мулин значок", потому что есть же предел человеческой подлости. Да признание было и не нужно. Наоборот, нужно было непризнание. Директор не хуже других знал, чья эта хрустальная линза с золотой буквой "С". Но он был незлой человек, директор Гугенот, и не хотел беды неразумному пятикласснику Ксото. И неприятностей для себя не хотел тоже. Он сказал:
— Эту улику показывали уже в нескольких школах, но там хозяина не нашлось. Может быть, кто-то из вас вспомнит: не видел ли он этот значок на ком-нибудь из учащихся?
Идиотизм вопроса был ясен Гугеноту до конца. И он изумился не меньше ребят, когда прозвучал тонкий вскрик Альбина:
— Это мой!
— Ну, му-уля, — сказал кто-то в упавшей опять тишине. И было здесь и уважение, и недоверие: неужели сунулся в зонг? И жалость к дурачку: зачем признался-то?
Гугенот помигал.
— А... я понял. Ты кому-то подарил его? Кому?
Альбин встал и молчал.
— Или где-то потерял, а потом его кто-то из ребят, видимо, нашел? И ты не знаешь кто? — решил откровенно выручить бестолкового Утю Гугенот.
— Ага... — выдохнул Альбин.
— Я так и подумал... Но это, к сожалению, не решает вопроса...
— А можно мне взять значок? — тихо попросил Альбин.
— Увы, нельзя. Это вещественное доказательство. Пока виновник не найден...
— А если... будет найден? — еле слышно спросил Альбин.
— Тогда, конечно, значок тебе вернут.
И стало тихо-тихо. Корнелий все понял. "Не надо!" — хотел крикнуть он Альбину. И не крикнул. Казалось, что в тишине нарастает звон. Вдруг представилось Корнелию, что это звенят разбитые тонкие стекла — черные зеркала пространств. Словно Альбин сорвался с высоты и летит вниз, пробивая их своим телом... И сквозь этот звон Корнелий не услышал, а скорее угадал, что Альбин говорит директору:
— Это я был в зонге... Теперь отдайте, пожалуйста.
...В школе и в Комиссии попечителей детства Альбин упрямо твердил, что был в зонге один. Если был кто-то еще, то он этого не знает. Несмотря на такое явное запирательство, Машина добросовестно учла прежнее примерное поведение Альбина Ксото и ограничилась исключением из колледжа. Правда, родители заплатили крупный штраф. Тогда еще не было единой системы наказаний, которая определяла бы шансы на смертную казнь (сейчас, если виноваты дети, — шанс падает на родителей).
Вскоре Альбин с отцом и матерью уехал из Руты. Корнелий опять лежал с разболевшейся ногой, когда Альбин зашел попрощаться. Расставание получилось скомканным. Корнелию казалось, что Альбин догадывается о его трусости. И еще о трусости в классе. Тогда ведь вспыхнула мысль — вскочить и крикнуть: "Я тоже хотел с Альбином в зонг, только из-за ноги не смог!"
После этого легче было бы жить.
Но не посмел. И успокаивал себя здравой мыслью: "Это же ничем ему не поможет".
— Будущим летом постараемся приехать на старую дачу, — неловко сказал Альбин.
— Ага... приезжай, — выдавил Корнелий. Он смотрел не в глаза Альбину, а на значок. Маленькая линза с буквой "С" блестела на дорожной курточке.
— Надо идти собираться... Пока... — сказал Альбин.
...Почему это помнится больше всего? Разве и до той поры и потом не трусил Корнелий, не юлил? Разве (если совсем честно говорить) не предавал? Этот случай с Готическим кварталом — разве порядочный поступок? Да и других "эпизодов" хватало в биографии.
Так почему же помнится Альбин?
"Потому что других я никого не любил", — подумал Корнелий. А Хальку он любил по-настоящему. Так, как, наверно, любят брата в тех редких семьях, где бывает двое, а то и больше детей... "Потому что, когда я предал его, я предал себя..."
После этого школьная жизнь вспоминалась смутно и одинаково. Мулей он больше не был. Но страх все равно жил в нем: страх перед одноклассниками, учителями, экзаменами... Потом страх перед начальством. Страх плохо сделать работу. Страх потерять благоустроенное бытие...
Ну и что теперь?
...А инспектор Мук, ныряя к столу слюнявым лицом, подвел итог какой-то своей исповеди:
— Ну и что? Все едино... Проблевали мы свою жизнь, просопливели. Что была, что не была...
Волна холодной ровной злости прошла вдруг по Корнелию, обдала голову. Он откинулся к спинке стула.
— Послушай, инспектор... Ты латинский шрифт когда-нибудь учил?
— М-м... че-во?
— Латинским шрифтом твое имя с какой буквы пишется?
Слегка трезвея от необычности вопроса, Альбин Мук произнес:
— С... какой... Конечно, с "А". По-всякому с "А". — И добавил с ноткой самодовольства: — Да. А ты думал что?
— Вот и хорошо... — То, что имя этого Альбина пишется не так, как у того, у Хальки, доставило Корнелию хотя и короткую, но ощутимую радость.
Почему? Какое значение это имело теперь?
Корнелий, шатнувшись, встал.
— Пойду я. Ну тебя...
И через минуту упал в камере на казенное одеяло.