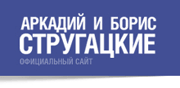|
Джером Биксби
Мы живем хорошо
Перевод С. Бережкова
Тетя Эми сидела на крыльце в кресле-качалке с высокой спинкой и раскачивалась взад-вперед, обмахиваясь веером. Билл Сомс подъехал на велосипеде и соскочил перед домом.
Потея под послеполуденным «солнцем», Билл поднял из корзины над передним колесом коробку с продуктами и направился по дорожке к крыльцу.
Маленький Энтони сидел на лужайке и играл с крысой. Он поймал крысу в подвале – сделал так, что она подумала, будто почуяла сыр, самый пахучий и аппетитный сыр, о каком только крыса может мечтать, и когда она вылезла из норы, Энтони овладел ее мозгом и заставил ее выделывать разные штуки.
Увидев Билла Сомса, крыса попыталась убежать, но Энтони не захотел этого, и она кувырком упала в траву и осталась лежать, и глазки ее светились крошечным черным ужасом.
Билл Сомс поспешно прошел мимо Энтони и остановился у ступенек крыльца, что-то бормоча себе под нос. Он всегда бормотал что-то себе под нос, когда приближался к дому Фремонтов, или проходил мимо, или думал о нем. Все так делали. Все усиленно думали о разных глупостях, о ничего не значащих вещах, например, два-и-два-четыре-и-умножить-на-два-восемь и так далее. Все старались перепутать свои мысли и перескакивать в мыслях с предмета на предмет, так чтобы Энтони не мог узнать, о чем они думают. Бормотание под нос помогало. Потому что, если Энтони схватывал какую-либо вашу мысль, он мог найти нужным сделать что-нибудь по этому поводу, – например, вылечить головную боль у вашей жены или свинку у вашего ребенка, или вновь заставить доиться вашу старую корову, или утрясти какие-нибудь мелкие дела. При этом он мог не иметь в виду ничего плохого, но ведь трудно ожидать от него, чтобы в подобных случаях он делал именно то, что нужно.
Это – если вы ему нравитесь. Он тогда может попытаться помочь вам по-своему. И это бывает по-настоящему ужасно...
А если вы ему не нравитесь... Что ж, тогда может быть еще хуже.
Билл Сомс поставил коробку с продуктами на перила крыльца и перестал бормотать ровно на столько времени, чтобы сказать:
– Все, что вы заказали, мисс Эми.
– О, прекрасно, Вильям, – беззаботно сказала Эми Фремонт. – Господи, ну что за жара сегодня!
Билл Сомс съежился. Его глаза умоляли ее. Он яростно затряс головой и вновь прервал бормотание, хотя было видно, что ему очень не хочется этого:
– Ну что вы, мисс Эми... Ведь сейчас так славно, ну просто славно. Настоящий хороший день!
Эми Фремонт поднялась с кресла-качалки и подошла к Биллу. Это была высокая худощавая женщина; в глазах ее зияла улыбающаяся пустота. Примерно год назад Энтони рассердился на нее, потому что она сказала, что не следует превращать кота в коврик из кошачьей шкуры, и хотя он всегда слушался ее больше, чем кого-либо другого – других он вообще не слушался, – на этот раз огрызнулся. Огрызнулся мысленно. И это был конец Эми Фремонт, какой ее знали все. С тех пор у нее никогда больше не блестели глаза. И тогда весь Пиксвилл (население 46 человек) облетел слух, что даже члены собственной семьи Энтони не находятся в безопасности. После этого все удвоили осторожность... Когда-нибудь, возможно, Энтони и исправит то, что он сделал тете Эми. Мать и отец Энтони надеются на это. Когда он подрастет и ему станет жаль ее. То есть если это возможно. Ведь тетя Эми сильно изменилась, и, кроме того, Энтони теперь не слушается никого.
– Успокойся, Вильям, – сказала тетя Эми, – перестань бормотать. Энтони не сделает тебе ничего плохого. Бог свидетель, Энтони любит тебя! – Она повысила голос и обратилась к Энтони, который старался заставить крысу съесть самое себя: – Ты слышишь, дорогой? Ведь, правда, ты любишь мистера Сомса?
Энтони взглянул через лужайку на бакалейщика – пристальный взгляд ярких, влажных пурпуровых глаз. Он ничего не сказал. Билл Сомс попытался улыбнуться ему. Через секунду Энтони вновь обратился к крысе. Крыса уже сожрала собственный хвост, во всяком случае, отгрызла его, потому что Энтони заставлял ее откусывать быстрее, чем она могла глотать, и вокруг на земле валялись кровавые алые комочки. Теперь крыса пыталась достать до своей спины.
Бормоча себе под нос и изо всех сил стараясь ничего не думать, Билл Сомс на негнущихся ногах прошел по дорожке, забрался на велосипед и нажал на педали.
– До вечера, Вильям! – крикнула ему вслед тетя Эми.
Нажимая на педали, Билл в глубине души пожелал мчаться вдвое быстрее, чтобы как можно скорее убраться от Энтони и от тети Эми, которая временами просто забывает, как нужно быть осторожным. И ему не следовало думать о таких вещах, потому что Энтони поймал его мысли. Он поймал желание убраться от дома Фремонтов, как от чего-то плохого, и его пурпуровые глаза мигнули, и он послал вслед Биллу Сомсу крошечную хмурую мысль, совсем крошечную, потому что он был в хорошем настроении сегодня и, кроме того, Билл Сомс ему нравился или, по крайней мере, не ненравился; по крайней мере – сегодня. Билл Сомс жаждет убраться подальше? Что ж, Энтони обиженно помог ему.
Нажимая на педали со сверхчеловеческой скоростью, – так, впрочем, казалось, потому что в действительности это педали нажимали на его ноги, – Билл Сомс исчез в клубах пыли, умчавшись вниз по дороге. Его тонкие испуганные вопли донеслись сквозь летнюю жару.
Энтони взглянул на крысу. Крыса уже сожрала часть собственного живота и издохла от боли. Тогда он послал ее в глубокую могилу на маисовом поле – однажды отец с улыбкой сказал, что ему, конечно, нетрудно делать так со всеми животными, которых он убивает, – и пошел вокруг дома, отбрасывая странную свою тень в горячем медном свете, льющемся с неба.
На кухне тетя Эми распаковывала продукты. Она поставила горшочки от Мэйсона на полку, спрятала мясо и молоко в холодильник, а свекольный сахар и грубую муку сунула в шкафчик под раковиной. Картонную коробку она поставила в угол около дверей, чтобы мистер Сомс мог взять ее, когда придет в следующий раз. Коробка была испачкана, и потрепана, и порвана, и изношена, но она была одной из немногих, оставшихся еще в Пиксвилле. Выцветшими красными буквами на ней было написано: «Суп Кэмпбелла». Последние банки супа и всего прочего были съедены давным-давно, если не считать небольшого общественного запаса, к которому жители обращались только в особых случаях, но коробка еще держалась; а когда она и другие коробки развалятся, людям придется мастерить ящики из дерева.
Тетя Эми вышла на задний двор, где мать Энтони – сестра Эми – сидела в тени дерева и лущила горох. Каждый раз, когда мать проводила пальцем вдоль стручка, горошины – лоллоп, лоллоп, лоллоп – падали в сковородку у нее на коленях.
– Вильям привез продукты, – сказала тетя Эми.
Она устало опустилась на стул с прямой спинкой возле его матери и снова принялась обмахиваться веером. Она вовсе не была стара. Но с того дня, когда Энтони мысленно огрызнулся на нее, что-то скверное случилось не только с ее умом, но и с телом, и она все время чувствовала себя усталой.
– О, хорошо, – сказала мать.
Лоллоп! – упали в сковородку крупные горошины.
Все в Пиксвилле всегда повторяли: «О, прекрасно», или «Хорошо», или «Ну просто замечательно», что бы ни случилось и ни упоминалось – даже несчастье, даже смерть. Они всегда говорили «Хорошо», потому что, если они не старались скрыть свои подлинные чувства, Энтони мог подслушать, и никто не знал, что может тогда случиться. Вот, например, Сэм, покойный муж миссис Кент, вернулся домой с кладбища, потому что Энтони любил миссис Кент и услышал, как она плакала.
Лоллоп.
– Сегодня вечером будет телевизор, – сказала тетя Эми. – Я очень рада. Я всегда так жду телевизора каждую неделю. Интересно, что мы увидим сегодня вечером?
– Билл принес мясо? – спросила мать.
– Да. – Тетя Эми, обмахиваясь веером, взглянула на небо, пылающее равномерным медным огнем. – Господи, как жарко! Хотела бы я, чтобы Энтони сделал немного попрохладнее...
– Эми!
– О! – Резкое восклицание матери сделало то, чего не смогли сделать умоляющие жесты Билли Сомса. Тетя Эми в тревоге зажала рот исхудалой рукой. – О... Прости, дорогая.
Ее бледные голубые глаза торопливо обежали двор, проверяя, нет ли поблизости Энтони. Не то чтобы это имело значение – ему не надо было находиться поблизости, чтобы узнать, о чем вы думаете. Но обычно, если его внимание не было приковано к кому-нибудь, он был погружен в собственные мысли. И все же какие-то вещи привлекали его внимание, и вы никогда не могли сказать, какие именно.
– Погода просто прекрасная, – сказала мать.
Лоллоп.
– О да, – сказала тетя Эми. – Прекрасный день, я бы нипочем не хотела, чтобы стало по-другому.
Лоллоп.
Лоллоп.
– Который час? – спросила мать.
Тете Эми с ее места был виден будильник, стоявший на кухне, на полке над печью.
– Половина пятого, – сказала она.
Лоллоп.
– Сегодня вечером мне хотелось бы чего-нибудь особенного, – сказала мать. – Хороший ростбиф принес Билл?
– Отличный, дорогая. Они забили бычка только сегодня, знаешь ли, и принесли нам лучшую часть.
– Дэн Холлиз будет очень удивлен, когда узнает, что сегодняшняя встреча у телевизора будет одновременно и празднованием его дня рождения?
– О, я думаю, он очень удивится! Никто не говорил ему?
– Все клялись, что не скажут.
– Это будет действительно прекрасно, – кивнула тетя Эми, глядя вдаль, на маисовое поле. – День рождения...
– Ну что ж... – Мать поставила сковородку с горохом на землю рядом с собой, встала и отряхнула фартук. – Я, пожалуй, пойду ставить ростбиф. А потом мы накроем на стол. – Она взяла горох.
Из-за угла вышел Энтони. Он не взглянул на них, а прошел прямо через аккуратно прибранный сад – все сады в Пиксвилле содержались аккуратно, – мимо бесполезной ржавеющей коробки, бывшей когда-то семейным автомобилем Фремонтов, плавно перенесся через изгородь и вышел на маисовое поле.
– Ну до чего прекрасный день, – сказала мать чуть громче, направляясь с тетей Эми к двери на кухню.
Тетя Эми обмахивалась веером.
– Прекрасный день, дорогая, просто прекрасный.
На маисовом поле Энтони шагал между шуршащими рядами зеленых стеблей. Ему нравился запах маиса. Живого маиса над головой и старого, мертвого маиса под ногами. Богатая земля Огайо, насыщенная корнями трав и коричневыми сухими гнилушками початков маиса, при каждом шаге набивалась между пальцами его босых ног – прошлой ночью он сделал дождь, чтобы сегодня все пахло и было хорошо.
Он прошел до края поля, туда, где роща тенистых зеленых деревьев скрывала прохладную, сырую темную землю, и массу лиственного подлеска, и нагромождения замшелых камней, и маленький родник, образовавший яркое озерко. Здесь Энтони любил отдыхать и глядеть на птиц, и насекомых, и мелких зверьков, как они шуршат, бегают и чирикают вокруг. Он любил лежать на прохладной земле, и вглядываться в движущуюся зелень над головой, и наблюдать, как насекомые вьются в смутных мягких лучах, которые стоят подобно косым пылающим столбам между землей и верхушками деревьев. Ему почему-то нравились мысли маленьких существ в этом месте, нравились больше, чем мысли людей за полем. И хотя мысли, которые он здесь улавливал, не были особенно сильными и яркими, он понимал их достаточно, чтобы знать, что этим маленьким существам нравится и чего они хотят, и он проводил много времени, устраивая рощу так, как это больше всего нравится им. Раньше здесь не было родника. Но как-то раз он уловил жажду в крошечном мохнатом мозгу, и вывел грунтовые воды наружу чистой холодной струей, и наблюдал, помаргивая, как зверек пил, и ощущал его удовольствие. Позже он создал озерцо, обнаружив у другого зверька желание покупаться.
Он устроил камни, и деревья, и пещерки, и кусты, солнечный свет там и тени здесь, потому что он чувствовал во всех этих крошечных мозгах желание – или инстинктивную тягу – именно к такому месту для отдыха, именно к такому месту для спаривания и именно к такому месту для игр и для гнезда.
И видимо, все зверьки со всех пастбищ и полей знали, что это хорошее место, потому что с каждым разом их приходило сюда все больше, – каждый раз, когда Энтони появлялся здесь, он обнаруживал больше зверьков, чем их было накануне, и больше желаний и стремлений, которые надо было удовлетворить. Каждый раз он находил зверьков нового вида, какие ему раньше не попадались, и он заглядывал в их мозг и смотрел, чего они хотят, и давал им то, что они хотели.
Он любил помогать им. Ему нравилось ощущать их простое удовольствие.
Сегодня он лег позади толстого вяза и устремил взгляд своих пурпуровых глаз на красно-черную птицу, только что появившуюся в роще. Она щебетала на ветке над его головой, и прыгала взад и вперед, и думала свои маленькие мысли, и Энтони сотворил большое мягкое гнездо для нее, и очень скоро она забралась туда.
Длинное коричневое гладкошерстное животное пришло напиться из озерца. Энтони заглянул в его мозг. Животное думало о зверьке поменьше, который бегал по другую сторону озерца, выкапывая насекомых. Зверек не знал, что он в опасности. Длинное коричневое животное перестало пить и напрягло ноги, готовясь к прыжку. И Энтони отправил его в глубокую могилу на маисовом поле.
Он не любил таких мыслей. Они напоминали ему мысли людей в деревне. Давным-давно несколько человек думали вот так же о нем, и однажды вечером они спрятались и ждали его, когда он возвращался из рощи, – и он сразу переправил их всех в могилу на маисовом поле. С тех пор никто из людей не думал о нем так, по крайней мере, не думал отчетливо. Теперь все их мысли были перепутаны и в беспорядке, когда они начинали думать о нем или возле него, поэтому он перестал обращать на них особое внимание.
Ему нравилось иногда помогать людям, но это было не так просто, и не все были довольны его помощью. Они никогда не думали счастливых мыслей, когда он помогал, просто пугались. И он стал проводить больше времени здесь.
Некоторое время он наблюдал птиц, насекомых и зверьков, потом поиграл с одной птицей, заставив ее взмывать и стремглав опускаться и носиться бешено вокруг деревьев, но тут другая птица отвлекла его внимание на секунду, и первая ударилась о камни. От обиды он загнал камни в могилу на поле, но с птицей он сделать больше ничего не мог. Не потому, что она была мертва, а потому, что у нее было сломано крыло. И он отправился домой. Ему не хотелось шагать через маисовое поле, поэтому он просто явился домой – перенесся в подвал.
Здесь, в подвале, было отлично. Отлично, и темно, и сыро, и даже хорошо пахло, потому что однажды мать стала варить варенье на длинном столе возле дальней стены, но когда Энтони начал приходить сюда, она перестала спускаться, варенье протекло и разлилось по грязному полу, и Энтони нравился его запах.
Он поймал новую крысу, заставив ее подумать, будто она чует сыр, поиграл с нею и отправил в могилу на маисовом поле рядом с длинным животным, которое он убил в роще. Тетя Эми ненавидела крыс, и он убил их множество, потому что ему нравилась тетя Эми, и иногда он делал то, что хотелось тете Эми. Ее мозг был похож на маленькие мохнатые мозги там, в роще. Она давно уже не думала о нем ничего плохого.
После крысы он поиграл с большим черным пауком в углу под лестницей, заставив его бегать по паутине взад и вперед, пока паутина не затряслась и не засверкала в свете, падающем из отдушины, словно отражение в серебристой воде. Затем он принялся загонять в паутину плодовых мух, пока паук не обалдел совершенно, пытаясь опутать их всех. Пауку нравились мухи, его мысли были сильнее мушиных, поэтому Энтони делал так. Нечто плохое улавливалось в этой любви паука к мухам, но было трудно разобрать, что именно, и, кроме того, тетя Эми ненавидела мух тоже.
Он услыхал шаги наверху – мать ходила по кухне. Он мигнул своими пурпуровыми глазами и чуть было не решил заставить ее остановиться, но вместо этого перенесся наверх, на чердак. Взглянув из круглого окна под крышей на лужайку перед домом, на пшеничное поле Гендерсона за нею и на пыльную дорогу, он свернулся в неправдоподобный узел и задремал.
Он услышал, как мать подумала: скоро гости начнут собираться на вечер с телевизором.
Он подремал еще немного. Ему нравились вечера с телевидением. Тетя Эми всегда любила телевизор, и однажды он придумал для нее телевидение, и в это время там были другие люди, и тетя Эми была недовольна, когда они собрались уходить. Он сделал им кое-что за это – и с тех пор все приходят смотреть телевизор.
Ему нравилось внимание, которое ему уделяют.
Отец Энтони вернулся домой в половине седьмого, усталый, грязный и весь в крови. Он был на пастбище Данна с другими жителями, помогая выбрать корову для убоя на этот месяц, и он забил ее, и разделал, и засолил в леднике у Сомса. Так было не потому, что ему нравилась эта работа. Просто каждый занимался этим по очереди. Вчера он помогал старому Макинтайру скосить пшеницу. Завтра они начнут молотить. Вручную. В Пиксвилле все приходится делать вручную.
Он поцеловал жену в щеку и присел у кухонного стола. Он улыбнулся и спросил:
– А где Энтони?
– Где-то недалеко, – сказала мать.
Тетя Эми стояла у горящей плиты и ложкой помешивала в горшке с горохом. Мать вернулась к печи и стала поливать ростбиф жиром.
– Да, сегодня был хороший день, – сказал отец как заводной, механически. Затем он взглянул на котелок с тестом и на доску для нарезания хлеба на столе. Он понюхал тесто.
– М-м, – сказал он. – Я так голоден, что съел бы буханку в один присест.
– Никто не говорил Дэну Холлизу о том, что нынче его день рождения? – спросила мать.
– Нет, мы не проболтались.
– Мы подготовили такой приятный сюрприз!
– М-м? А что?
– Ну... ты знаешь, как Дэн любит музыку. Так вот, на той неделе Тельма Дани нашла у себя на чердаке патефонную пластинку!
– Не может быть!
– Да, да! И мы подбили Этель, чтобы она спросила... знаешь, так, словно бы невзначай... есть ли такая у него. И он ответил, что нет. Разве это не прекрасный сюрприз?
– Да, конечно. Пластинка, подумать только! Почаще бы находить такие вещи! А какая это пластинка?
– «Ты мое солнце» в исполнении Перри Комо.
– Здорово. Мне всегда нравился этот мотив. – На столе лежали несколько сырых морковок. Отец выбрал морковку поменьше, обтер ее о грудь и откусил. – Как же Тельма нашла ее?
– Ну, как обычно... Просто обшаривала дом, искала новые вещи.
– М-м, – отец жевал морковку. – Слушай, а у кого эта картина, которую мы тогда нашли? Мне она нравилась – этот старый корабль на всех парусах...
– У Смитов. В следующую неделю ее возьмут к себе Сайпики, отдадут Смитам музыкальный ящик старого Макинтайра, а мы отдаем Сайпикам... – И она принялась перечислять вещи, которыми будут обмениваться женщины в церкви в воскресенье.
Он кивнул.
– Да, пожалуй, мы не скоро получим картину назад. Слушай, милочка, попробуй забрать у Рейлисов тот детектив. Я был занят в ту неделю, когда он был у нас, и мне так и не удалось прочитать до конца...
– Постараюсь... – сказала мать с сомнением. – Кстати, я слыхала, что Ван Хьюзенсы нашли у себя в подвале стереоскоп. – Голос ее обрел обвиняющие нотки. – И они целых два месяца никому не говорили об этом...
– Скажи-ка, – сказал отец с заинтересованным видом. – Это тоже было бы неплохо. А много картинок?
– Думаю, что много. Я узнаю в воскресенье. Хотелось бы мне заполучить это... Но мы все еще должны Ван Хьюзенсам за их канарейку. Понять не могу, почему эта птичка сдохла именно в нашем доме! А теперь Бетти Ван Хьюзенс ничем не удовлетворишь. Она даже намекнула, что хочет наше пианино на время!
– Ну ладно, милочка, попробуй все-таки насчет стереоскопа. Или еще чего-либо, что, по-твоему, нам бы понравилось.
Он наконец проглотил морковку. Морковка была немного незрелой и жесткой. Из-за капризов Энтони насчет погоды жители никогда не знали заранее, какие посевы дадут урожай и в каком состоянии будет этот урожай. Единственно, что они могли делать, – это сеять как можно больше. И каждый сезон что-нибудь давало достаточный урожай, чтобы прожить. Однажды получился огромный избыток зерна. Тонны зерна пришлось перетащить к окраине Пиксвилла и вышвырнуть в пустоту. А то нечем было дышать, когда оно начало портиться.
– Знаешь, – продолжал отец, – это славно – иметь в деревне новые вещи. Приятно думать, что есть еще много вещей, которых никто еще не нашел, в подвалах, и на чердаках, и в сараях, и за сундуками. Они как-то помогают жить. А все, что помогает...
– Ш-ш-ш! – мать нервно оглянулась.
– О, – сказал отец, торопливо улыбаясь. – Все в порядке!! Новые вещи – это хорошо! Так славно, когда в деревне появляются вещи, которых ты никогда не видел, и ты знаешь, что вещи, которые ты даешь другим, нравятся людям... Это действительно хорошо!
– Очень хорошо! – эхом отозвалась его жена.
– Очень скоро, – сказала тетя Эми от печки, – не останется ни одной новой вещи. Мы разыщем все, что можно найти. Господи, это будет так скверно...
– Эми!
– Ну как же. – Ее бледные глаза были пусты и неподвижны, как всегда, когда она впадала в идиотизм. – Это будет просто стыдно – никаких новых вещей...
– Не говори так, – сказала мать, вся дрожа. – Эми, успокойся!
– Все хорошо, – сказал отец особым, громким, предназначенным для подслушивания голосом. – Это хорошая беседа. Все в порядке, милочка, разве ты не понимаешь? Эми может говорить все что хочет, это хорошо. Это хорошо, что ей так плохо. Все хорошо. Все должно быть хорошо...
Мать Энтони была очень бледна. И такой же была тетя Эми. Ужас этой минуты внезапно проник сквозь облако, окутывающее ее мозг. Иногда так трудно управляться со словами, чтобы они не оказались попросту уничтожающими. Вы прямо никогда не знаете, что можно, а что нельзя. Так много вещей, о которых лучше не говорить и не думать... но и запрещение говорить и думать о них тоже может выйти боком, если Энтони подслушал и решил что-нибудь предпринять. Никогда нельзя сказать, что собирается сделать Энтони.
Все должно быть хорошо. Должно быть отлично так, как оно есть, даже если на самом деле плохо. Всегда. Потому что любая перемена может быть к худшему, к чудовищно худшему.
– О господи, да, конечно, все хорошо, – сказала мать, – ты можешь говорить все что хочешь, Эми, это так славно. Конечно же, ты хочешь запомнить, что некоторые вещи лучше других...
Тетя Эми мешала горох, в ее бледных глазах был ужас.
– О да, – сказала она. – Но мне как-то не хочется разговаривать сейчас... И это... Это так хорошо, что мне не хочется разговаривать.
Отец устало сказал, улыбаясь:
– Пойду помоюсь.
Гости начали сходиться около восьми. К этому времени мать и тетя Эми приготовили в столовой большой стол и еще два столика по углам. Были зажжены свечи, расставлены кресла, а отец затопил камин.
Первыми пришли Сайпики, Джон и Мэри. На Джоне был его лучший костюм, он тщательно отмылся и был красен после работы на пастбище Макинтайра. Костюм был аккуратно выглажен, но сильно протерся на локтях и манжетах. Старый Макинтайр трудился над созданием ткацкого станка, устройство которого он узнал из школьного учебника, но работа эта продвигалась медленно. Макинтайр умел работать с деревом и инструментами, но ткацкий станок трудно построить без металлических деталей. Макинтайр был одним из тех, кто вначале пытался заставить Энтони создавать необходимые для жителей предметы, например, одежду, и консервы, и медикаменты, и бензин. То, что в результате случилось с семьей Терренсов и Джо Киннеем, было на его совести, он помнил об этом и изо всех сил старался загладить свою вину перед остальными жителями. И с тех пор никто больше не пытался просить Энтони сделать что-нибудь.
Мэри Сайпик была маленькой веселой женщиной в простеньком платье. Она немедленно принялась помогать матери и тете Эми накрывать на стол.
Затем прибыли Смиты и Данны, жившие в конце дороги, в нескольких метрах от пустоты. Они приехали в фургоне, запряженном их старой лошадью.
Затем пришли Рейли из-за погруженного в темноту пшеничного поля, и вечер начался. Пэт Рейли сел за пианино в гостиной и стал играть по нотам популярные мелодии. Он играл негромко и выразительно – и никто не пел. Энтони очень любил музыку, но не пение. Часто он вступал в комнату из подвала или чердака, просто вступал и садился на пианино, покачивая головой, пока Пэт играл «Любимого», или «Бульвар разбитой мечты», или «Ночь и день». По всей видимости, он предпочитал баллады или лирические песенки, но когда однажды кто-то начал подпевать, Энтони взглянул на него с пианино и сделал что-то такое, отчего впредь больше никто не решался петь. Позже они решили: наверное, пианино было первым, что Энтони услышал в своей жизни, еще прежде, чем кто-либо попробовал петь при нем, и теперь все, что добавляется к пианино, кажется ему неприятным и мешает удовольствию.
И вот на каждом телевизионном вечере Пэт должен был играть на пианино, и это было началом вечера. Где бы Энтони ни был, музыка услаждала его и приводила в хорошее настроение, и так он узнавал, что они собрались на телевизионный вечер и ждут его.
В половине десятого собрались все, кроме семнадцати детей, оставленных под присмотром миссис Сомс в здании школы на другом конце деревни. Пиксвиллским детям было категорически запрещено приближаться к дому Фремонтов с того дня, как маленький Фред Смит попробовал поиграть с Энтони. Младшим детям даже никогда не говорили об Энтони. Остальные же либо забыли о нем, либо были предупреждены, что он – славный добрый домовой, но подходить к нему нельзя.
Дэн и Этель Холлиз пришли поздно, и Дэн ни о чем не подозревал. Пэт Рейли играл на пианино, пока у него не заболели руки – он много потрудился ими сегодня, – и теперь он встал, и все столпились вокруг Дэна Холлиза, чтобы поздравить его с днем рождения.
– Да что вы говорите! – воскликнул Дэн, расплываясь в улыбке. – Вот здорово-то! Вот уж совсем не ожидал... Ей-ей, это здорово!
Они принесли ему подарки – большей частью самодельные, но также и несколько вещей, принадлежавших им и переходивших теперь в его собственность. Джон Сайпик подарил ему брелок на часовую цепочку, вырезанный из орешника. Часы Дэна сломались год назад, и никто в деревне не знал, как починить их, потому что часы эти достались ему от деда и были старинными, тяжелыми, из позолоченного серебра. Под общий смех он прикрепил брелок к цепочке и сказал, что Джон здорово умеет вырезать по дереву. Затем Мэри Сайпик подарила ему вязаный галстук, который он тут же надел, сняв свой.
Рейли подарили ему самодельный маленький ящичек, предназначенный для хранения разных вещей. Они не сказали, каких именно вещей, но Дэн заявил, что будет хранить я этом ящичке свои фамильные драгоценности. Рейли изготовили его из ящичка из-под сигар, ободрав тщательно бумагу и оклеив изнутри бархатом. Снаружи ящик был отполирован и тщательно, хоть и не весьма искусно украшен резьбой, но резьба Пэта тоже была одобрена. Дэн Холлиз получил много других подарков: трубку, шнурки для ботинок, булавку для галстука, вязаные носки, несколько конфет, резинки для носков, сделанные из старых подтяжек.
Он разворачивал каждый подарок с бесконечным удовольствием и тут же надевал на себя все, что можно было, даже резинки для носков. Он раскурил трубку и объявил, что никогда еще не курил с таким наслаждением, и это было неправдой, потому что трубка была еще не обкурена. Пит Меннерз получил ее в подарок от своего родственника из другого города четыре года назад – этот родственник не знал, что он бросил курить.
Дэн очень аккуратно набил трубку табаком. Табак был дорог. Это было просто случайной удачей, что Пэт Рейли решил посадить немного табака у себя на заднем дворе накануне того дня, когда с Пиксвиллом случилось то, что случилось. Табак рос плохо, кроме того, им самим приходилось заготавливать его, резать и прочее, и он был очень дорог. В каждом доме были деревянные запасники для окурков, сделанные старым Макинтайром.
Наконец Тельма Данн подарила Дэну Холлизу найденную ею обертку. Он сразу понял, что это пластинка.
– Господи... – сказал он тихо. – Что же это? Я просто боюсь взглянуть...
– У тебя такой нет, милый, – улыбнулась Этель Холлиз. – Помнишь, я тебя спрашивала, есть ли у тебя «Ты мое солнце»?
– Господи, – повторил Дэн. Он осторожно развернул обертку и некоторое время стоял, любуясь пластинкой, проводя большой ладонью по изношенным бороздкам записи с тонкими штрихами царапин. Он оглядел комнату сияющими глазами, и все улыбнулись ему в ответ, зная, какая это для него радость.
– Со счастливым днем рождения, милый, – сказала Этель Холлиз, обнимая за шею и целуя его.
Он держал пластинку обеими руками, отведя ее в сторону, пока жена прижималась к нему.
– Осторожно! У меня в руках сокровище!
Он снова оглядел всех поверх головы жены. Глаза его горели.
– Слушайте... А нельзя ли ее проиграть? Боже мой, что бы я не дал, чтобы услышать новую музыку! Хотя бы только первую часть, оркестр, перед тем как Комо вступает?
Лица посуровели. После минутной паузы Джон Сайпик сказал:
– Мне кажется, не стоит, Дэн. В конце концов, мы ведь не знаем, когда вступает певец... Лучше не искушать судьбу. Лучше подожди, пока вернешься домой.
Дэн Холлиз неохотно положил пластинку на буфет, рядом с остальными подарками.
– Это хорошо, – сказал он автоматически, но разочарованно. – Это хорошо, что я не могу послушать ее здесь.
– Да, конечно, – сказал Сайпик. – Это хорошо. – Чтобы забыть разочарованный тон Дэна, он повторил: – Это хорошо.
Они сели обедать, свечи озаряли их улыбающиеся лица, и они съели обед до последней крошки, до последней капли превосходного соуса. Они похвалили мать и тетю Эми за ростбиф, и за горох, и за морковь, и за нежный маис в початках. Разумеется, маис был не с поля Фремонтов – все знали, что на этом поле, и оно зарастало травой.
Затем они угостились десертом – домашним мороженым и печеньем. А потом откинулись на спинки кресел и принялись болтать при мерцающем свете свечей, ожидая телевизора.
В телевизионные вечера обычно не бормотали себе под нос: все приходили и угощались вкусным обедом у Фремонтов, и это было приятно, и после был телевизор, и никто особенно не думал о телевизоре, который был чем-то вроде принудительного ассортимента. Так что это были просто приятные вечера в обществе, если не считать необходимости следить за своими словами так же тщательно, как и в любом другом месте. Если на ум вам приходила опасная мысль, вы начинали бормотать себе под нос, хотя бы и посередине фразы. Когда вы делали так, остальные просто не обращали на вас внимания, пока вам не становилось лучше и вы не переставали бормотать.
Энтони любил телевизионные вечера. За весь прошлый год он только два или три раза совершил ужасные поступки на этих вечерах.
Мать поставила на стол бутылку бренди, и каждому налили по крохотному стаканчику. Спиртное было еще более драгоценно, нежели табак. Жители делали вино, но виноград был плох, техника тоже, и вино не получалось хорошим. Настоящего спиртного в деревне осталось всего несколько бутылок: четыре ржаного виски, три шотландского, три бренди, девять обычного вина и полбутылки «Драмбьюи»*, принадлежавшего старому Макинтайру (только для свадеб), – и когда запасы кончатся, ничего больше не останется.
* Шотландский ликер из виски, меда и трав.
Позже все пожалели, что было выставлено бренди. Потому что Дэн Холлиз выпил его больше, чем следовало, и смешал с большим количеством домашнего вина. Сначала никто не подозревал ничего дурного, потому что Дэн не выказывал признаков опьянения, и это был день его рождения, и праздник шел весело, а Энтони любил такие сборища и вряд ли имел повод сделать что-либо, даже если и подслушивал.
Но Дэн Холлиз опьянел и сделал глупость. Если б они вовремя заметили неладное, они б увели его домой.
Сначала они заметили, что Дэн перестал смеяться на самой середине рассказа о том, как Тельма Дани нашла пластинку с Перри Комо и уронила ее, и пластинка не разбилась, потому что Тельма двигалась быстрее чем когда-либо в жизни и подхватила ее. Он снова гладил пластинку и жадно смотрел на граммофон Фремонтов, стоявший в углу, и вдруг он перестал смеяться, лицо его обвисло и стало неприятным, и он сказал:
– О господи боже мой!
Мгновенно в комнате все стихло. Стало так тихо, что можно было слышать жужжащий ход дедовских часов за стеной. Пэт Рейли, тихонько игравший на пианино, перестал играть, и его руки замерли над клавишами.
Свечи в столовой мигнули в прохладном ветерке, подувшем через кружевные занавески на окне.
– Продолжай играть, Пэт, – тихо сказал отец Энтони.
Пэт снова заиграл. Он играл «Ночь и день», но глаза его были прикованы к Дэну, и он часто ошибался.
Дэн стоял посредине комнаты, держа пластинку. В другой руке он сжимал стакан с бренди, и рука его тряслась от напряжения.
Все смотрели на него.
– Господи боже мой, – повторил он и еле слышно выругался.
Преподобный Янгер, разговаривавший с матерью и тетей Эми у дверей, тоже сказал: «Господи...» – но он произнес это слово с молитвенным выражением. Руки его были сложены и глаза закрыты.
Джон Сайпик вышел вперед.
– Слушай, Дэн... – проговорил он. – Это хорошо, что ты так говоришь. Но ведь ты не хочешь говорить много, не так ли?
Дэн стряхнул ладонь Сайпика со своей руки.
– Не могу даже послушать свою пластинку, – сказал он громко. Он поглядел на пластинку, затем обвел взглядом лица соседей. – О господи...
Он швырнул стакан в стену. Стакан разбился, и бренди потекло по обоям.
Кто-то из женщин вскрикнул.
– Дэн, – шепотом сказал Сайпик. – Дэн, перестань...
Пэт Рейли стал играть «Ночь и день» громче, чтобы заглушить разговор. Впрочем, если б Энтони слушал, это бы не помогло.
Дэн Холлиз подошел к пианино и, слегка покачиваясь, остановился за плечом у Пэта.
– Пэт, – сказал он. – Не играй это. Играй вот это. – И он запел – тихо, хрипло, жалобно: – «В мой день рождения... В мой день рождения...»
– Дэн! – взвизгнула Этель Холлиз. Она попыталась подбежать к нему, но Мэри Сайпик схватила ее за руку и удержала на месте. – Дэн! – крикнула Этель. – Перестань!
– Господи, тише! – прошипела Мэри Сайпик и подтолкнула Этель к одному из мужчин, который подхватил ее и зажал ей рот ладонью.
– «В мой день рождения, – пел Дэн, – счастья желайте мне...» – Он остановился и взглянул вниз, на Пэта. – Играй, Пэт, играй, чтобы я мог петь правильно... Ты же знаешь, я всегда сбиваюсь с мотива, если не играют!
Пэт Рейли положил руки на клавиши и заиграл «Любимого» – в темпе медленного вальса, так, как это нравилось Энтони. Лицо у Пэта было белое. Его руки дрожали.
Дэн Холлиз уставился на дверь. На мать Энтони и на отца Энтони, который встал рядом с нею.
– Это вы породили его, – сказал он. Свет свечей отразился в слезах, катившихся по его щекам. – Это вы взяли и породили его...
Он закрыл глаза, и слезы полились из-под закрытых век. Он громко запел:
– «Ты мое солнце... мой радостный свет... ты дала радость...»
Энтони возник в комнате.
Пэт перестал играть. Он замер. Все в комнате замерли. Ветер надул занавески. Этель Холлиз больше не пыталась кричать – она потеряла сознание.
– «Не отнимай мое солнце... у меня...» – голос Дэна пресекся и заглох. Глаза его расширились. Он выставил перед собой руки, в одной он сжимал пластинку. Он икнул и сказал: – Не надо...
– Плохой человек, – сказал Энтони и превратил Дэна Холлиза в нечто невообразимо ужасное и затем отправил его в могилу, глубоко-глубоко под маисовым полем.
Пластинка упала на ковер. Она не разбилась.
Энтони обвел комнату пурпуровыми глазами.
Некоторые гости принялись бормотать, все старались улыбаться. Бормотание наполнило комнату, подобно далекому звуку одобрения. И сквозь этот гул ясно и отчетливо слышались два или три голоса.
– О, это очень хорошо, – сказал Джон Сайпик.
– Прекрасно, – сказал отец Энтони, улыбаясь. У него было больше практики в улыбке, чем у всех остальных. – Превосходно!
– Здорово... Просто здорово, – сказал Пэт Рейли. Слезы текли по его лицу и капали с носа, и он снова принялся играть на пианино, тихо, медленно, нащупывая пальцами мелодию «Ночи и дня».
Энтони забрался на пианино, и Пэт играл два часа подряд.
Затем они смотрели телевизор. Все перешли в гостиную, зажгли всего пару свечей и придвинули кресла к телевизору. Экран был маленький, и все не могли усесться так, чтобы было видно, но это не имело значения. Они даже не включили телевизор. Все равно ничего бы не вышло, ведь в Пиксвилле не было электричества.
Они просто молча сидели и смотрели, как на экране извиваются и трепещут странные формы, и слушали невнятные звуки, исходящие из динамика, и никто из них понятия не имел, что все это значит. Никто никогда не понимал. Это было всегда одно и то же.
– Все это прекрасно, – заметила тетя Эми, не отрывая взгляда бледных глаз от мелькания теней на экране. – Но мне больше нравилось, когда показывали города и мы могли...
– Ну что ты, Эми, – сказала мать. – Это хорошо, что ты говоришь так. Очень хорошо. Но ведь ты не имеешь этого в виду, верно? Этот телевизор гораздо лучше того, что у нас был раньше!
– Конечно, – согласился Джон Сайпик. – Это великолепно. Это самое лучшее, что мы когда-либо видели...
Он сидел на кушетке с двумя другими мужчинами, удерживая Этель Холлиз, держа ее за руки и за ноги и зажимая ей рот ладонью, чтобы она не могла кричать.
– Это просто хорошо, – добавил он.
Мать взглянула в окно, туда, за погруженную во тьму дорогу, за погруженное во тьму пшеничное поле Гендерсона, в гигантскую, бесконечную серую пустоту, в которой маленькая деревушка Пиксвилл плавала, словно проклятая небом душа, – в исполинскую пустоту, которая была лучше всего видна по ночам, когда кончался медно-красный день, созданный Энтони.
И нечего было надеяться понять, где они находятся... Нечего. Пиксвилл просто был где-то. Где-то вне Вселенной. Так стало с того дня, три года назад, когда Энтони вышел из утробы матери, и доктор Бэйтс – господь да упокоит его! – издал дикий крик, и уронил новорожденного, и попытался умертвить его, и Энтони завыл и сделал все это. Перенес куда-то деревню. Или уничтожил всю Вселенную, кроме деревни. Никто не знал, что именно.
И нечего было задумываться над этим. Ничего хорошего все равно не вышло бы. И вообще ничего хорошего не выходило. Оставалось только стараться выжить. Выжить, выжить во что бы то ни стало. Если позволит Энтони.
«Опасные мысли», – подумала она.
Она забормотала себе под нос. Остальные тоже принялись бормотать. Видимо, они тоже думали.
Мужчины на кушетке шептали и шептали на ухо Этель Холлиз, и когда они отпустили ее, она тоже принялась бормотать.
Энтони сидел на телевизоре и показывал передачу, а они сидели вокруг, и бормотали, и смотрели на бессмысленно мелькающие тени на экране, и так продолжалось до глубокой ночи.
На следующий день выпал снег и погубил половину урожая...
И все же это был хороший день.
|
Оставьте Ваши вопросы, комментарии и предложения.
© "Русская фантастика", 1998-2012
© Джером Биксби, текст, 1953
© С. Бережков, перевод, 1990
© Дмитрий Ватолин, дизайн, 1998-2000
© Алексей Андреев, графика, 2006
Редактор: Владимир Борисов
Верстка: Владимир Борисов
Корректор: Владимир Дьяконов
Страница создана в январе 1997. Статус официальной страницы получила летом 1999 года
|
|