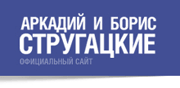|
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ДЕКАБРЬ. ВСЕ ЕЩЕ ПЯТНИЦА.
КОМАНДА В СБОРЕ
К назначенному времени никто, разумеется, без опоздания не пришел. Первыми – опоздав всего на десять минут – явились: Маришка, нагруженная кошелками со съестным, и Костя-Вельзевул с двумя бутылками «Кристалла». В квартире, однако, никого не оказалось, и, поцеловавши замочную скважину, они привычно расположились на лестничной площадке у мусоропровода и выкурили по сигаретке. Разговаривали, главным образом, о предвыборных скандалах, а также о странном поведении доллара. Электоральные предпочтения у них не совпадали. Маришка намеревалась голосовать за Интеллигента, а Костя считал Интеллигента занудой, рохлей и треплом. Он был – за Генерала. По Скалозубу соскучился, сказала ему Маришка с сердцем. «Он в две шеренги вас построит, а пикните, так мигом успокоит»... Ну и давно пора, возражал непримиримый Костя. И в две шеренги нас всех давно пора, и успокоить не мешало бы. Растявкались, понимаешь. Моськи... Длинный, тощий, весь из углов, локтей, рычагов и шарниров, в своем вечно-зеленом пальто до пят, – он был похож не столько на Вельзевула, сколько на Дуремара. Да он и был, в определенном смысле, Дуремар. Только Дуремар любил пиявок, а Костя – вообще всех малых сих. Без какого-либо исключения. (Пиявок он тоже любил. А они – его.) Но больше всего он любил (обожал, уважал, ценил, всячески воспевал, только что не лобзал) членистоногих. Например – тараканов. Он часто и с удовольствием повторял: «Каждый отдельный человек умнее таракана, это верно, но каждая человеческая толпа безмерно глупее любой стаи тараканов».
Богдан (он же Благоносец) присоединился к ним в самый разгар электорально-энтомологической дискуссии на тему «Возможны ли выборы у тараканов, а если да, то как это должно выглядеть?». Он кивнул Вельзевулу, приложился губами к теплой Маришкиной ручке, пахнущей сладко и уютно, как домашняя пастила, и, прервав поток Костиных разглагольствований, на всякий случай представил своего спутника: «Вова. Опекуемый», – поскольку абсолютно не помнил, с кем из дедов он своего опекуемого уже знакомил, а с кем еще нет.
Как и следовало ожидать (Богдан уже успел к этому привыкнуть), опекуемый Вова произвел на присутствующих свое обычное впечатление. Разыгралась сцена. Опекуемый Вова неуклюже раскланивается, и огромная серо-белого меха шапка тут же съезжает ему на глаза. Он поправляет шапку судорожным движением толстой как полено руки – разумеется, именно той самой руки, в которой держит он полиэтиленовый пакет с бутылками, – и бутылки крякают в пакете, да так опасно, что Костя, рассыпая искры из сигареты, дергается было их спасать, но, слава богу, все обходится благополучно. Все напряженно улыбаются, Маришка произносит нежнейшим из своих голосков: «Да мы ведь знакомы уже... Вовочка, хотите жвачку?», Костя же Вельзевул (для него все это в новинку) молчит, и ясно, что внешность (равно как и манеры) опекуемого Вовы продрали его до самых печенок.
(...Даун. Абсолютный беспримесный даун. Гигантские нелепые ножищи, отвислая жопа, как у старого бегемота, унылые, всегда безнадежно опущенные плечи, ручищи-лапищи... И жирное белое лицо с раскосыми глазами – вечно полуоткрытый рот и стеариновые щеки, налитые молодым салом. И постоянный около него тяжелый дух, словно от лошади. И бабий невнятный голосок. И мучительное неумение связывать слова... И фантастическая неуклюжесть движений... Образцово-показательная уродливая жертва беспощадно-равнодушной трисомии по двадцать первой хромосоме... И сумрачный, бесценный, жестокий дар – глубоко-глубоко под этой тошнотворной оболочкой, на самом дне странной его души.)
– Можешь благополучно успокоится, – сказал Богдан, глядя на Вельзевула с усмешкой. – Вова абсолютно безопасен. Он даже полезен иногда. Вова, как у дяди Кости со здоровьем?
– Камни! – тут же откликнулся дядя Костя. Он не любил терять инициативы и никогда не терял. – Камни, а под камнями – рачок.
И поскольку Вова ничуть на это не отреагировал и смотрелся как человек, смутно представляющий себе, о чем здесь идет речь и вообще какое нынче число, Костя тут же принялся пересказывать свой разговор с последней любимой девушкой. (Диалог типа: «Кто такой Брэдбери?» – «Психиатр». – «???!!!» – «Ну знаю, знаю, писатель...» – «И что же он написал?» – «Записки сумасшедшего»...)
– Нет, – сказал Вова неожиданно. Он, оказывается, не слушал про Брэдбери, и смотрел он только на Богдана. – Ничего этого нет. Но будет грипп. Завтра.
Костя замолчал на полуслове.
– Вот видишь, – сказал Богдан, с удовольствием наблюдая за быстро изменяющимся спектром Вельзевуловой мимики. – А ты боялся.
– Костя! – сказала Маришка, немедленно встревожившись. – Значит, ты сейчас бациллоноситель? Кошмар! – Она порылась в обширной своей сумке и, как фокусник кролика, извлекла оттуда длинную марлевую повязку. – Надень.
– Еще чего! – возмутился Костя.
– Надень немедленно!
Тут лязгнула дверь лифта, и появился наконец хозяин – в роскошной черной хромовой куртке, мрачный как туча и неприветливый, как таможенный инспектор. Он глянул полуприкрытыми своими тяжелыми глазами на собравшуюся компанию, посмотрел на часы и проговорил неразборчиво: «Ну всё, всё. Пошли в дом...» И все послушно побрели к нему в дом.
В маленькой прихожей возникла обычная толкотня и суета, все мужики двинулись галантно принимать у Маришки дубленку, а Вова, опекуемый, снял с себя титаническую шапку сам и стоял с нею посреди суеты, всем мешая и не умея ничего полезного предпринять. И не успели они все толком разоблачить себя, как зазвенел дверной звонок и запоздалый гость пошел косяком.
Андрей-Страхоборец объявился, безукоризненно точный в движениях души и тела, и вообще безукоризненный, как человек коммунистического будущего (или – аристократического прошлого, если вам будет угодно). Он расцеловался с Маришкой, прочим сделал ручкой и тут же рассказал свежайший анекдот про хакера и его ДНК. Тенгиз, едва дождавшись окончания анекдота, буркнул ему: «Встречался?» – и Страхоборец, глядя в упор ясными глазами, откликнулся почему-то на мове: «А як же ж!» – у них, как всегда, были свои дела, впрочем, сегодня можно было без труда догадаться, какие именно.
А тут и виновник торжества прибыл (несчастный, весь словно в лихорадке, непрерывно улыбающийся, как раз и навсегда заведенная игрушка) – Вадим Христофоров-Кавказский, он же – Резалтинг-Форс, мученик своего таланта, а с ним и «временно его сопровождающий» Матвей, озабоченный, безобразно плохо выбритый и даже, кажется, сутулый более обыкновенного. Увидевши эту парочку, Богдан внутренне поджался, но, видимо, только он один. Остальные принялись, наоборот, шуметь, галдеть и суетиться еще больше, хотя это у них, безусловно, тоже была лишь реакция на ту же парочку, только другая, более истерическая.
В гостиной, всю середину которой занимал старинный стол, как всегда покрытый тяжелой скатертью, было по обыкновению сумрачно, почти темно (только уличный оранжевый фонарь за полузадернутыми шторами на обоих окнах), а когда кто-то включил самодельную люстру, похожую на космическую станцию отдаленного будущего, на стенах возникли, загорелись, затлели картины: черно-красный шемякинский герцог Альба уставился на гостей с ледяною неприязнью, и повеяло привычной тоскливой скукой с желто-синей улицы из «Прогулок двадцать первого века» Игоря Тюльпанова, и маленький Иуда сгорбился пред ликом гигантского Христа на большом полотне, где прочие одиннадцать апостолов спали расслабленно и безмятежно, синевато-зеленые, блеклые, похожие на протухающие куриные тушки... Разбирался ли Тенгиз в живописи – это был вопрос спорный, но подбор картин у него имел место, безусловно, своеобразный – на свежего человека эта маленькая галерея действовала оглушающе, а человек привычный, едва только бросив рассеянный взор, сразу же понимал вдруг, что опять кое-чего не заметил здесь раньше и опять чего-то недопонял...
К Вельзевулу все это рефлексирование отнюдь не относилось: похожий в своей марлевой повязке на хирурга перед решающей операцией, он тут же кинулся за Маришкой на кухню, а вот опекуемый Вова – тот да, тот – остолбенел. Юноша не приучен был к такому искусству. Впрочем, вряд ли он приучен был хоть к какому-нибудь искусству. У него папа был потомственный алкоголик, а мама – владелица трех овощных магазинов, крутая бабища из породы несгибаемых русских кариатид, сиречь атлантов женского полу...
...Стоящий по всей квартире галдеж вдруг усилился: прибыл Юрочка-Полиграф, румяный, рослый, толстощекий, с веселыми усиками щеточкой. «Полундра! – раздавалось ему навстречу. – Ахтунг-ахтунг, ас Костомаров в воздухе!.. Водки ему, срочно! Пока не поздно, водки, умоляю...» И уже несли из кухни стакан водки, и несчастный Костомаров уже послушно принимал его и бестрепетно поглощал, проливая алмазную влагу на кашне и на обшлага полуснятого с плеч пальто.
– Выглохтал? Слава богу! Теперь хоть можно разговаривать по-человечески...
– Слушай, Юрка, только честно: а сэнсей как – тоже врет? Ну хоть иногда?
– Да все врут, брат, можешь быть уверен...
– Так уж и все?
– Все как один. Только это не имеет никакого значения, потому что никто никого все равно не слушает.
– Хорошо сказано, однако!
– Это, к сожалению, не я, брат. Это называется «закон Либермана»...
– Которого Либермана?
– А хрен его знает, брат. Одного из.
– А разок?!
– Буду рад.
– А пару?
– Умру от счастья.
– А три?
– Можно четыре.
– А пять?
– Как дома побывать!
– А шесть?
– По уставу не положено...
И прочие прибаутки-фенечки ДМБ-восемьдесят-пять.
...Расселись, с грохотом двигая тяжелые дедовские стулья, распределились в привычном порядке вокруг стола (полуживого от стеснительности Вову загнали в дальний угол под напольные часы – чтобы никому не мешал, – и там он навсегда закоченел с полуоткрытым ртом и вытаращенными глазами); уже разливалось спиртное, и ножи брякали об тарелки, и тянулись через стол за закусками руки, удлиненные серебряными вилками из семейного старинного сервиза; все оживились (или сделали вид, что оживились), все галдели кто во что горазд, все казались голодными (а возможно, и были голодными на самом деле), и все было совершенно как обычно, как встарь, когда собирались, просто чтобы беспредметно погалдеть и вкусно поесть.
...Боже мой, подумал Богдан. Как же я все это любил раньше! Совсем недавно ведь, и пятилетки даже еще не прошло. Этот веселый общий гам, дым сигарет, звякание приборов у накрываемого стола, и запах гренок с луком и сыром, которые уже запекает в духовке Маришка, и предсмертное пшиканье откупориваемого пива, и толкотню по всей гостиной («Извини, брат». – «Ничего страшного, брат, топчи меня и дальше такого-сякого...») – весь этот милый гармидер, всю эту раблезианскую, почти даже олимпийскую атмосферу предвкушения божественной Жрачки Духа и Тела... Ничего теперь не осталось, кроме раздражения, и желания уйти, похожего на тягучую ишиасную боль, и стыдной мысли: ладно, пусть, еще два, ну – три часа, и все это кончится, и можно будет отправиться домой...
Галдели как всегда, совершенно как обычно, будто ничего особенного не случилось, – ни о чем и обо всем одновременно. О фигурном катании. О последнем сериале (который никто не смотрел, но почему-то все при этом были в курсе). О ценах на нефть. О литературе, разумеется. И о философии. Мы спокон веков обожаем погалдеть насчет литературы и философии.
– ...Изъятие себя извне!
– Это еще что такое?
– Не помню. Вычитал где-то. «Эдипальность как изъятие себя извне».
– Юнг какой-нибудь?
– Очень даже может быть. Там было что-то про ребенка мужского пола, который хочет скомпенсировать каким-то хитрым образом нехватку фаллоса у своей родной матушки.
– Жалко Винчестера нет – он бы тебе настрогал цитат.
– Ничего, брат. Во-первых, он не столько их строгает, сколько идентифицирует. А во-вторых, мы и без Винчестера обойдемся: «Постмодернизм метафоризировал всеобщую метонимию авангарда-тоталитаризма».
– Круто. Красиво сказано. Сам выдумал?
– Нет. Это – оттуда же.
– Бросьте, у каждой науки – свой язык.
– Однако же, есть наука, а есть – «созерцание стены». Брат.
– Или еще лучше: есть физика, а все остальное – коллекционирование марок.
– Попрошу не касаться коллекционирования марок! Филателия – это святое.
– ...Я давеча полистал Ясперса – «Философскую автобиографию» – и ничего, ну ничегошеньки оттуда полезного не почерпнул. Кроме того, что Хайдеггер был, оказывается, нацистом. Откуда немедленно следует: в каждом море Ума обязательно найдутся острова Глупости. Но это я, положим, знал и раньше...
– Не «Глупости», а «Гнусности».
– Брось. Какая в данном случае разница?
– Не говори, брат! Еще какая. Как между карьерным дипломатом и карьерным самосвалом.
– Все равно: есть наука, а есть – «созерцание стены».
– ...Это Гильберт, кажется, сказал про какого-то бедолагу: «У него-де не хватило воображения для математики, и он стал поэтом». Погорячился, великий человек. Тут дело ведь не в количестве воображения, а в качестве. Это все равно что сказать про Беккенбауэра: у него не хватило силенок, чтобы стать тяжелоатлетом, и он пошел в футболисты...
– А кто такой Беккенбауэр?
– О боже! С кем мне здесь приходится общаться!
– Я давеча в одном доме уговаривал тараканов. Девчушка. Лет шестнадцати, очаровательная, как умывающийся котенок. Я стал ее клеить. Вижу – не врубается. Я спрашиваю: «Вы что, не знаете, кто такой Брэдбери?» Знаю, говорит: психиатр...
Галдели, впрочем, не все. Тенгиз по-прежнему оставался мрачен и молчалив. Глотал охлажденную водку, запивал минералкой, совсем не закусывал, только смотрел в пустую тарелку, а когда поднимал глаза, выпуклые, мрачные, с тяжелыми красными веками, мало кто выдерживал этот взгляд – неуютно становилось и зябко и хотелось сделать вид, что никакого этого взгляда не было, просто маленькое недоразумение возникло, а сейчас вот все разрешится и разъяснится наилучшим образом. И красив он был – страшен и великолепен одновременно, словно врубелевский демон. «Красав`ец и здоровляга, и уж наверн`ое не еврей...» Дрянь дело, думал Богдан, поглядывая на него украдкой. Видимо, совсем ничего не получается. Видимо, кусок этот нам совсем уж не по зубам. А может быть, у него просто что-нибудь опять не ладится с княгиней Ольгой?.. Впрочем, княгиня просто терпеть не может нашу Маришку, вот почему ее здесь нет. И не надо. Господь с ней, без нее даже лучше...
А Маришка была как всегда очаровательна (словно умывающийся котенок). Васильковые глаза. Грудной, с хрипотцой голос. И чудный смех, которым она награждала, словно орденской лентой. Своих дорогих паршивцев. Своих любимых мальчиков. Она точно знала, что мальчики не подведут. Никогда не подводили – и теперь не подведут. А если кто-то дрогнет, она тут же окажется рядом и подставит плечо. Или улыбнется ему. Или просто скажет: я здесь... Откуда в ней эта непостижимая вера в нас? Ведь мы же на самом деле абсолютно бессильны перед мерзостью, перед любой злобной силой. Я не говорю уж про гангстеров и про сексотов, – перед обыкновенным хулиганьем бессильны! Вот ты, Благоносец хренов, – можешь ты отбиться от пары гопников? Дать в рыло? Заехать гаду по яйцам? Зла ведь никогда у меня на это не хватает. А она все равно в нас верит. И эта вера, она так дорого стоит, что ее почти уже невозможно приобрести. Как любовь. Как здоровье. Как талант. Неужели мы и в самом деле лучше, чем выглядим?.. «В конце концов, все зависит только от нас самих!..» Увы. В том-то и дело. Я бы предпочел, чтобы все зависело от кого-нибудь понадежнее...
...А герой дня Вадим был изжелта-бледен и дурен, глаза красные и заплыли, рот – кривой, словно его непрестанно тошнит и он вот-вот вырвет прямо на скатерть. («Так вот ты какой – человек третьего тысячелетия!..») Хлопотливый Матвей очень нежно его опекал, настоятельно пододвигал закуску, бегал в кухню за минералкой, подбирал за ним падающие на пол вилки-ножики, – видимо, фундаментально и основательно напугал его Вадим своими бабскими фокусами, и Великий Математик уже и не знал теперь, чего еще ему следует опасаться. Зрелище это было, скорее, тошнотворное, но к своему удивлению Богдан испытал по этому поводу что-то вроде укола ревности: никогда не видел он Велмата таким заботливым и таким внимательным, он даже представить его не мог таким – этого ядовито-ехидного умника, всегда совершенно беспощадного и к себе, и к другим, и ко всему нашему нелепо-идиотскому миру. Да-а, а Вадим вот оказался – сущая размазня. Сопля зеленая. Тьфу... Или он все-таки актерствует? Быть того не может. А впрочем... Ничего мы друг о друге не знаем, да и знать не умеем, и так – всю жизнь. Открытие за открытием, и все открытия – почему-то поганые. Открываются расписные ворота души, и несет оттуда вдруг такой тухлятиной, что хоть святых выноси...
– М-м-м! Маришка! (Хрум-хрум.) Какие гренки! Божественно!..
– А это что такое? Бифштексы?
– Не тормози! Бифштексни!
– Это не бифштексы, брат. Это ГОВНАТРУБ.
– Чево-о-о?!
– Говядина натуральная рубленая, брат. Извини, брат.
– Слушайте! Прекратите жрать. Боба еще нет!
– Боба ждать – знаешь... Боб человек подневольный: когда отпустят, тогда и придет. И ни минутой раньше...
– Ты только закусывай, пожалуйста. Я тебя умоляю, Вадим, не надирайся. Подожди...
Дзынь-дзынь-дзынь – ножом по краю рюмки. Тенгиз. Решил, что пора, и возбудился к действию.
– Господа! Леди и джентльмены! Внимание! Вы что сюда – жрать пришли? Прекратите обжираловку, блин! Сначала – дело!
– Вот и именно! (Это Вадим. Уже на взводе и уже даже – с перебором.) Объявляется дело Вадима Христофорова, погоняло – Резалтинг-Форс! Пр-рашу! Вот стою я п'р'д вами, словно голенький...
– Да помолчи ты, ради бога! Отдай стакан!.. Не умеешь ведь пить, жопа с ручкой, совершенно...
– Д-да! Но зато я умею напиваться!
– Тихо! Заткнитесь все! Начинаем. Обстоятельства дела всем известны? Я полагаю, всем...
– Вове не известны.
– Вова перетопчется. Я к дедам обращаюсь: все в курсе?
Деды были в курсе. Все. Некоторые слышали эту историю уже неоднократно – и от Вадима, и друг от друга. Всем и все было понятно. И никто не знал, что надо делать.
– У меня вопрос к Димке, – сказал Богдан. – Они прорез`ались последнее время? Или нет?
– Откуда мне знать, – проговорил Вадим, пьяно растягивая слова. – Они у меня телефон пр-рслушивают, суки...
– Когда ты их видел в последний раз? – терпеливо настаивал Богдан.
– «Не в этой жизни...» – Вадим истерически хихикнул.
– Отстань от него, – сказал Богдану озабоченный Матвей. – Что ты пристал к человеку? Не знает он ничего больше. И не соображает.
– Вижу-вижу, – сказал Богдан и замолчал.
Ничего у нас не получится, подумал он. Мы либо безразличны, либо бессильны. Бессильные мира сего... Но вот что поразительно: ведь я, кажется, завидую ему. За ним охотятся, от него чего-то еще ждут, он нужен кому-то, или мешает кому-то, или может быть кому-то полезен. Трепло, слабак, размазня, но представляет ведь собою некую ценность, причем, похоже, немалую. А я вот – пуст. И никому не нужен. Как высосанная банка из-под пива...
Вадим между тем стремительно надирался. Матвей хватал его за руки, отбирал стакан, отставлял подальше бутылки – ничего не помогало. Казалось, Вадим буквально цель перед собою поставил: надраться вглухую, – как можно основательнее и как можно быстрее. А скорее всего, так оно и было на самом деле. Может быть, он устал быть трезвым. «...Все, кто вам дорог, достойны самого лучшего... – провозглашал он, никого не слушая и ничего не слыша. – Я просто мою голову и иду... Что вы вообще можете понять? Слышали про такого: Эраст Бонифатьевич зовут... Педераст Бонифатьевич... Если бы у меня была под рукой двустволка, я бы набил этой суке морду...» – и он заливался смехом, кашлял смехом, задыхался смехом, беспорядочно раскачиваясь всем телом, словно воздушный шар на ветру.
– Отдай стакан, говорю!..
– Да отстань ты от него, в самом деле!
– Заткнись. Ты что – не видишь, что он вытворяет?.. Сидеть!
– Св-в'боду Вадиму Христофорову!..
Тут напольные часы (мрачная черная башня, отсвечивающая лаком и медными виньетками) подали голос – всхрапнули и ударили, глухо, с благородно-сдержанной мощью, так что все тотчас же замолчали, словно вдруг заговорил среди них старший, – да так оно и было, по сути дела: часы эти были старинные, немецкие, привезенные в свое время из Ваймара, в счет репараций. Они размеренно отработали свое «хр-р-баммм!» восемь раз подряд, вздохнули напоследок и стихли. И Юра-Полиграф традиционно произнес с демонстративным благоговением: «Ей-богу, клянусь, встать хочется!..» И все переглянулись, и заулыбались, и почему-то всем сделалось хорошо.
...Всем, кроме Вадима, конечно, которому хорошо стать не могло уже ни при каких обстоятельствах. Ему теперь могло стать только плохо, и ему таки стало плохо, и Матвей с Маришкой поспешно увели его в ванную, а остальные вновь загомонили – главным образом, для того, чтобы заглушить мучительные звуки, доносящиеся оттуда.
– ...Вэл'вл!
– Что, горе мое?
– Перестань врать!
– Никогда! Настоящих жуков больше не осталось. Я еще застал жуков-носорогов. Oryctes nasicornis. Под Лугой их было довольно много. Но вот жука-оленя живого не видел ни разу. Сейчас все они исчезли навсегда. Бронзовка обыкновенная – Cetonia aurata – заделалась редкостью. Жужелицы крупной на огороде не встретишь...
– А в Японии, между прочим, жуков до черта. Их там разводят.
– Сравнил! Япония войну проиграла. Тоталитарным государствам полезно проигрывать войны – они от этого сразу идут на поправку.
– Мы тоже проиграли войну.
– Верно. Но во-первых, гораздо позже. А во-вторых – явно идем на поправку.
– Что-то не видно.
– Видно, видно. Но жуков нам уже теперь не вернуть. Разве что в Японии станем закупать. Но нет худа без добра: у нас появились удивительные тараканы!..
– Полундра! Не надо про тараканов!
– Слушайте, жлобьё, мы будем языком болтать или мы будем, блин, делом заниматься?..
– ...Открывает жена. Руки опущены, подбородок открыт...
– Недурно. Но мне больше понравилось про новоросса. Выходит из Эрмитажа и говорит: «Ну, что ж. Не бог весть что, конечно, но ничего, ничего – чистенько...»
– «Машка, женушка моя дорогая! Родила? Сколько? Трое? Мои есть?..»
– ...А ты представь себе «Ревизора» с точки зрения чиновника. История про то, как мелкий проходимец и негодяй обманул приличных и порядочных людей...
– ...Слушай, вот интересно, что было бы, если бы у Николая хватило сообразительности дать Александру Сергеевичу сразу камергера вместо камер-юнкера?
– Между прочим, я только к старости узнал, что Ольга, оказывается, была сестра Татьяны...
– Господи! А кто же она тогда была, по-твоему?
– Ну, не знаю, брат. Приятельница. Подружка. «Скажите, девушки, подружке вашей...»
Потом Маришка снова появилась, растерянная и встрепанная, и сразу же, не садясь, налила себе минералки и жадно выпила.
– Ну и ну, – сказала она и опустилась на ближайший стул.
Андрей произнес с недурным французским прононсом:
– Monsieur Christoforoff va s'animaliser.
Кто понял – промолчал, кто не понял – тем более. А Вельзевул осведомился деловито:
– Уложили?
– Там с ним Матвей... – ответила Маришка невпопад. – Ребята, он так долго не протянет, надо что-то делать, честное слово. Богдан, ты не хочешь им заняться?
– Нет, – сказал Богдан так резко, что все сразу же замолчали и теперь смотрели на него. Даже Тенгиз. Даже опекуемый Вова.
– Извини меня, конечно, но почему? – спросила Маришка беспомощно. – Это же сейчас – совершенно очевидно – твой клиент.
– Я предпочел бы не давать объяснений, – сказал Богдан таким тоном, чтобы разговор прекратился. И разговор прекратился.
– Что ты выяснил? – спросил Тенгиз, переведя тяжелый взор свой на Страхоборца. – Ты узнал что-нибудь?
– Да. Я узнал, что Аятолла замечательная личность и что у него есть два слабых места.
– Целых два? – сказал Юра-Полиграф. – Да он у нас просто слабак!
– Первое: он любит жену. Второе – он любит сына.
– О боже! – сказала Маришка нервно.
– Сын маленький? – осведомился Юра.
– Да. Десять лет.
Некоторое время все молчали, уткнувшись в тарелки, и только Маришка оглядывала всех по очереди, постепенно закипая.
– Это не для нас, – сказала она наконец решительно.
– Но он-то этого не знает, – возразил Страхоборец.
– И думать на эту тему не хочу, – сказала Мариша. – И вам не разрешу. Забудьте. Прямо сейчас.
– «Гордость составляет отличительную черту ее физиономии», – произнес Юра-Полиграф, безусловно, кого-то цитируя.
– Хорошо, хорошо, – сказала ему Мариша нетерпеливо. – Но я на эту тему даже разговаривать не желаю.
– Ну, вот что, золотко мое, – сказал Тенгиз, глядя ей в лицо. – Либо мы тут будем обливаться соплями, блин...
– Да, мы будем обливаться соплями! И всё! Нет темы для разговора!
– Ты скажи это Димке... – мрачно предложил Тенгиз, отводя, впрочем, глаза.
– Скажу, не беспокойся. И он со мной согласится. Со мной, а не с тобой.
Ну, это, положим, дело темное и отнюдь не очевидное, подумал Богдан, но в дискуссию вступать ни с кем не стал, а только спросил Тенгиза:
– Подобраться к нему вплотную можно?
– Можно, – сказал Тенгиз.
– Так за чем же дело стало?
Тенгиз не отвечал, как бы находясь в затруднении. Все смотрели на него и ждали.
– Слишком уж легко к нему подобраться, – сказал наконец Тенгиз медленно. – Мне это не понравилось.
– То есть?
– Я прошел к нему в офис свободно, блин, как в собственный сортир. Гада не оказалось на месте, но все равно – легкость эта... эта вседозволенность... там же охраны должно быть, как в Кремле. Тут что-то явно не так, блин. Так не бывает. Мне показалось, что это западня. Капкан для дураков.
Появился Матвей, запыхавшийся, но веселый.
– Слава тебе господи, – сказал он. – Задрыхнул наконец... Ну, что вы тут без меня решили?
– У него есть еще одна слабость, – сказал Страхоборец, уклоняясь от ответа на этот вопрос. – Он страдает арахнофобией.
– Это еще что за зверь такой? – осведомился Юра.
– Он боится пауков, жуков, мокриц и все такое прочее.
– О! Это интересно! – оживился Вельзевул. – И сильно боится?
– Было сказано: до смерти. Как ребенок.
– Отдайте его мне! – сказал Вельзевул радостно. – Где он живет? Адрес?
– Он живет в Царском Доме. Тебя туда не пустят.
– Ничего! Тенгиз проведет.
– Хрена, – сказал Тенгиз. – Царский Дом, знаешь, – там все на автоматике...
– Ну, нет, и не надо, – легко согласился Костя. – Чего мне там у него в квартире делать, в конце-то концов? И так прекрасно обойдусь.
Все смотрели на него с ожиданием, а он сиял и радовался, даже на стуле подскакивал от удовольствия, – он уже понял решение, Дуремар заполошный, да и не так уж трудно было сообразить, что именно он задумал, только выглядел этот его замысел дураковато и несерьезно на фоне сложившихся обстоятельств – инфантильно и легкомысленно, как и все Вельзевуловы замыслы. Потом он вдруг перестал сиять, сморщился, отчаянно чихнул в торопливо сложенные ладони – и тотчас же, под грозным взглядом Маришки, полез в карман за марлевой повязкой.
– Накаркал ты мне, Вова, – гнусаво сказал он, укоризненно моргая слезящимися глазами. – Опекуемый хренов, куда только твой опекун смотрит...
Богдан сказал:
– Опекун все-таки хотел бы окончательно понять, о чем здесь у нас идет речь. Мы же знаем Димку сто лет. Он же выдумщик, артист, почему я должен ему верить?
– Ну, знаешь! – сказал Матвей, ошеломленный и возмущенный одновременно.
– Нет уж, позволь! В прошлом году он устроил нам спектакль по поводу падения дойче-марки. В позапрошлом году мы все как идиоты...
– Перестань, Благоносец. Не срамись, – Матвей, весь скривившись, налил себе водки. – Не знаешь – не берись и судить. Видел бы ты его этой ночью.
– А что такого особенно произошло этой ночью?
– Не хочу рассказывать. Он подыхает от страха, понимаешь?
– Нет. Не понимаю. Где гарантия, что он не разыгрывает перед нами очередной свой водевиль? Что я – Димку не знаю?
Матвей на это ничего не сказал, а только скривился еще больше и выпил свою водку, не закусывая и даже как бы не заметив.
– Я ему верю, – сказала Маришка.
– Я тоже, – сказал Тенгиз, как бы нехотя.
– Ты, Благоносец, по-моему, просто ищешь предлога уклониться, – сказал Андрей-Страхоборец, вежливо улыбаясь. – Подчеркиваю: по-моему. Извини. Без обид, ладно?
– Ладно, – сказал Богдан.
– Ты же видишь, на что он похож...
– Вижу. На переполненный нужник.
– Ну, допустим. Но разве это не твоя работа?
– Допустим. Наверное, я должен его осушить. Но – не буду.
– Это – твои проблемы, – сказал Страхоборец, вежливо улыбаясь. – У нас – свободная страна...
– Он одинок, как я не знаю кто, – сказал Матвей с проникновенностью, совсем ему не свойственной. – Он знаешь мне что сказал? Представь, говорит, километровый столб посреди степи. На одной табличке у него: одна тысяча тридцать пять кэмэ, а на другой: три тысячи сто сорок четыре. И я стою около этого столба. Один.
...Что вы понимаете в настоящем одиночестве, подумал Богдан с каким-то даже мрачным удовлетворением. Сказал бы я вам, что такое настоящее одиночество. Это когда никого не хочется видеть. Никогда. Но сказал он другое:
– И за километраж ты тоже ручаешься?
– И за километраж я ручаюсь тоже, – сказал Матвей вполне серьезно.
Богдан решил не развивать эту тему. Хотя ему очень хотелось спрашивать и дальше. А помните (хотелось ему спросить), как он всех нас почти убедил, что появилась в Питере банда «чистильщиков»? Это он их так называл: чистильщики. То ли новая секта, то ли – даже – новые люди, зигзаг эволюции. Они, видите ли, очищали город от скверны, в первую очередь от лжецов, – отлавливали их и драли ивовой лозой – церемониально, с приговором, в специальных тайных помещениях, надевши белые маски. А лозу по старинным рецептам выдерживали в уксусной эссенции... И ведь Юрка-Полиграф без малого поверил тогда, что еще год-другой и останется он без работы...
...А как он придумал и сообщал всем по большому секрету: в городе исчезают люди. Не первый год уже. И – в количествах. Их отправляют в будущее. По какому-то странному, неудобопонятному принципу. А дело-то все в том, оказывается, что обнаружен летальный ген человечества, который распространяется как пожар, и вот теперь пытаются спасти хоть кого-то, хоть немногих... Маришка, между прочим, поверила и сейчас же рванулась искать этих спасателей, чтобы похлопотать о своем детдоме...
Ладно. Как хотите. Я и сам не уверен, что он сейчас разыгрывает с нами спектакль. Он выдумщик, конечно, но не Тальма все-таки, Франсуа Жозеф, и даже не Смоктуновский, Иннокентий... И вообще меня от него тошнит...
В этот момент с потолка (или с люстры?) камнем упало нечто тяжелое, многоногое, живое – грянулось с костяным стуком о край сахарницы, отскочило, перекувырнулось и понеслось стремительно по скатерти, сумасшедшим зигзагом, огибая бутылки, чашки и бокалы. Это был, несомненно, таракан – огромный, Богдану показалось – с кулак величиной, никогда он таких не видел... черный, отсвечивающий красным, стремительный, он слаломным зигзагом промчался по столу и – словно ласточкой с берега – прыгнул на колени Вельзевулу и тотчас же исчез, будто его никогда здесь и не было, будто это некое омерзительное видение шарахнуло всех по глазам и тут же пропало без следа. Никто не успел испугаться по-настоящему, но все дружно и с шумом отшатнулись, а Маришка коротко взвизгнула и вместе со стулом стремительно отъехала к стене.
«Мать-твою-наперекося!..» – произнес Тенгиз, вскакивая на ноги, грянул хор возмущенных голосов, в котором особо выделялся отчаянный вопль Маришки: «Убирайся, он по тебе ползает, брысь с глаз долой, чтобы я тебя никогда не видела!..», Вельзевул делал успокаивающие жесты, рассылал обеими руками воздушные поцелуи, и даже сквозь повязку видно было, как самодовольно он ухмыляется, а когда вопли и проклятия поутихли, он зловеще пообещал: «Этот гад будет у меня кричать «капиви»...», но все были так злы и раздражены, что никто даже не спросил, что он этим хочет, собственно, сказать. Впрочем, и так все было ясно – по одной лишь интонации.
Вельзевула заставили встать со стула, распахнуть куртку, расстегнуть рубаху, потрясти портками. Экстремисты требовали, чтобы он разделся догола. Повелитель Мух помирал со смеху: «Да нет его здесь! Да он же уже в подвале... Что он – дурак, что ли?» В разгар суматохи раздался звонок в дверь, объявился Роберт, строгий и неулыбчивый, как и всегда, его усадили в единственное полукресло, налили водки, Маришка принесла из кухни парочку еще теплых бифштексов. Богдан смотрел, как обхаживают лорда Винчестера, и старательно отгонял от себя тухлые мыслишки о «близости к телу», а равно о свечении отраженным светом. Вздор все это. Боб – высокомерен без заносчивости и строг без жестокости. Вполне достойная личность, на самом деле, да сэнсей и не стал бы держать около себя недостойного. И он почему-то вспомнил вдруг, как Тенгиз сказал Роберту в сердцах: «Ты же у нас символ супер-гипер-благопристойности. Ты, блин, даже когда пистон ставишь, только о том и думаешь, как бы сохранить при этом максимально возможную благопристойность...» Роберт тогда в ответ вполне благосклонно хмыкнул – видимо, нарисованная сценка показалась ему не столько обидной, сколько забавной. Нет-нет, он славный, наш лорд Винчестер, только слегка пересушен...
– Как там наш сэнсей? – спросил Богдан из вежливости. Кто-то же должен был это спросить.
– Сэнсей в полном порядке, – лаконично ответствовал Роберт, поедая бифштекс.
– Указания? Пожелания? – подключился уже основательно поддавший Юра-Полиграф. – Приказы?
– Вольно. Можете отдыхать.
Роберт явно не собирался распространяться на эту тему, что, впрочем, не противоречило обыкновению.
– Подлинная деликатность всегда незаметна, – прокомментировал ситуацию Андрей-Страхоборец и осведомился: – Тебе рассказать, о чем мы здесь договорились?
– Обязательно. Только – вкратце.
– Еще бы. Разумеется, вкратце. Тенгиз, расскажи человеку.
Тенгиз сказал:
– Значит, так. Я предлагаю следующий вариант. Выборы в воскресенье. В воскресенье, прямо с утра Димка переселяется сюда, ко мне. Пусть поживет пока здесь, так мне будет спокойнее. В понедельник я выхожу на Аятоллу и имею с ним беседу. Далее будем действовать по обстоятельствам. Ты, Вельзевул, должен быть к этому времени полностью готов. Успеешь? (Вельзевул кивнул.) Хорошо. Есть у меня еще и запасной вариант, но сначала, Боб, скажи, в какой степени мы можем рассчитывать на сэнсея?
– Ни в какой, – сказал Роберт, подбирая соус корочкой.
– То есть? Ты что – так с ним и не поговорил?
– Нет. Я поговорил с ним. В последний раз – час назад. Мы не можем на него рассчитывать.
– Но почему, блин? Что он тебе сказал?
– Дословно?
– Давай дословно.
– Он сказал: «Отличная штука – команда. Всегда есть возможность свалить вину на кого-нибудь другого».
– Что это, блин, значит? – спросил оторопевший Тенгиз.
– Это так называемое «Восьмое правило Фингейла». Если тебе от этого легче.
– И все?
– И все, – сказал Роберт-Винчестер и потянулся к остывшим уже гренкам на огромном фамильном блюде кузнецовского фарфора. – Слушай, Матвей, – продолжил он без всякого перехода. – Давно тебя хотел спросить. Можно назвать геделевским утверждение «Вселенную создал Бог»?..
Богдан не стал слушать дальше. Ему было неинтересно знать, является ли это утверждение геделевским, тем более что он смутно представлял себе, что это означает – «геделевское», и был совершенно уверен, что Вселенную создал не Бог. Он поднялся, вылез из-за стола и поманил за собою опекуемого Вову. Надо было работать. Он мало что умел делать в этой жизни, но то, что он умел, он делал лучше многих. Может быть, лучше всех.
Он прошел в спальню. Вова грузно топал след в след, тяжело сопя, как ломовая лошадь. Однако в сопении этом уже слышался рабочий азарт: опекуемый предчувствовал работу, а работать он тоже любил. Хотя и мало что пока умел.
Вадим лежал на боку, свесив руку до полу, зеленоватое лицо его было смято подушкой, и весь он выглядел как раздавленное животное. Сейчас это был просто бурдюк, наполненный отчаянием, бессилием и смрадным страхом. Но он же вполне здоров, возразил Вова. Это тебе только кажется, ответил Богдан. Он несчастен, а несчастье это болезнь. Более того, это лоно всех болезней на земле. Несчастье не лечится, возразил Вова. Оно проходит само собой, как дождь. Или не проходит, сказал Богдан. Или не проходит, согласился Вова. Но тогда оно перестает быть несчастьем и становится образом существования...
– Правильно поступает тот, – процитировал Богдан, – кто относится к миру, словно к сновидению. Когда тебе снится кошмар, ты просыпаешься и говоришь себе, что это был всего лишь сон. Говорят, что наш мир ничем не отличается от такого сна.
Однако Вова тоже читал «Книгу самурая». И тоже ценил ее.
– Но с другой стороны, – возразил он немедленно, – даже чашка риса или чая должна браться в руки должным образом, без малейшей неряшливости и с сохранением бдительности.
Богдан усмехнулся и преподнес опекуемому свое любимое:
– Не нужно быть все время настороже, – сказал он. – Нужно просто считать, что ты УЖЕ мертв.
– Это правило не для нас, – сказал Вова, как бы обидевшись. – Это – для них.
– Для нас тоже, Вова. Для нас тоже... Ладно. Приступим?
– Попробуем, – сказал вдумчивый и осторожный Вова и присел перед Вадимом на корточки, оттопырив необъятный свой зад молодого дегенерата.
[Предыдущая часть] Оглавление [Следующая часть]
|