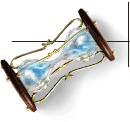
|
|
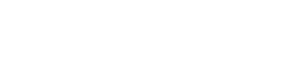
|
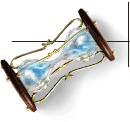
|
|
|
Юрико Миямото Перевод А. Стругацкого I Когда наступила весна, вода в озере быстро прибыла. Незадолго до этого озеро очистилось от льда; прибрежные отмели под прохладным ветром выделялись мутными пятнами, но и они сохраняли чистый, нежный оттенок, и на поверхности воды легко плясали солнечные блики. Мелкие волны, вернее – пятна ряби, пробегали от одного берега к другому, и каждый раз при этом тростники, еще не налившиеся жизненными соками, отзывались сдержанным шуршанием; внезапно вспархивающие трясогузки проносились над озером, словно гоняясь за волнами. Позади плотины, местами разрушенной и залитой водой, тянулись до далеких гор ряды пологих холмов, а над низкими вершинами величественно возвышался массив несравненной Адзума Фудзи. Северная природа бедна красками, и только очертания этих гор, на которых сейчас таяли снега, радовали взор своей изумительной красотой. Горы были серебряные. И темно-синие. Ослепительно сверкал обледеневший снег на вершинах, озаренный прямыми лучами солнца, и избыток блеска сползал со склонов цвета старого серебра в глубокие темно-синие тени у подножия. Там, в невидимых издали складках и вдоль зарослей кустарников, царила все та же темная синева, переливающаяся восхитительными оттенками – зеленоватыми, красными. Самое подножие массива скрывала цепь низких вершин. Спокойный западный ветер нес по небу облака, и их движение создавало на склонах горы неповторимо-сложные гаммы цветов. Горы то темнели, то озарялись, и казалось, что они живые. Уже давно Блаженный Мияда, сидя с поджатыми ногами над удочкой в тени клена, любовался этим восхитительным зрелищем. – Благодать... Благодать-то какая! – бормотал он самозабвенно. Он ощущал, как от всего, что его окружает, живо и властно поднимается чудесный дух совершенства. И дерево, и ничтожная былинка жили так, как были созданы. Когда он видел, как живут рядом каждое по-своему и не мешая друг другу большие и крохотные существа, он думал: «Ведь вот как устроен мир!» Сердце его переполнялось радостью, и в глубине его больших детских глаз, всегда растерянно помаргивающих, вспыхивали каплями ртути маленькие огоньки. Вообще говоря, лицо его привлекало внимание вдумчивого человека. Оно не поражало умом, тем более не было в нем и ничего героического. Оно было типичным для крестьянина Северо-Востока – широким, с выступающими скулами, но странно моложавым, хотя Мияда было уже за пятьдесят. И когда он разговаривал, устремив на собеседника учтиво, но прямо черные зрачки, подрагивая родимым пятном на нижнем веке, начинало казаться, что такие лица встречаются в этих краях нечасто. За его необыкновенной мягкостью угадывалось подлинное благородство, а за непосредственностью, столь неожиданной у человека его возраста, – простое, бесхитростное добродушие. И невольно хотелось улыбнуться при виде пушистых мочек его ушей. Блаженный Мияда неразговорчив. Никакие насмешки или оскорбления не в состоянии вызвать на его лице выражение гнева. И односельчане говорят о нем: – Ох и чудак же! При этом в слово «чудак» вкладывается понятие «растяпа», «пришибленный», а иногда, при известных обстоятельствах, и просто «дурак». Мияда работяга, но деловой сноровки у него нет ни на грош, поэтому делами, торговлей тутовыми деревьями и муги* занимается его жена О-Иси. Она всячески помыкает мужем, и он сносит все безропотно. Она привыкла ни в чем не считаться с ним. Изредка она окликает его: – Эй, отец! * Муги – здесь: хлеб в зерне. Это наверняка означает, что у нее либо что-то не ладится, либо она чем-то недовольна, и ей нужно на ком-нибудь сорвать зло. Таким образом, не будет преувеличением сказать, что авторитет Мияда в семье весьма незначителен. – Тьфу! Это мой-то? Она сердито сплевывает, не стараясь скрыть свое презрение к мужу даже перед посторонними. Это никого не удивляет. И весь его род блаженный, монашеский. Прозвище «Блаженный» ему дали за его безграничную неприспособленность к жизни. Среди людей «я» Блаженного Мияда всегда скрыто в глубоких тайниках его души. Что бы он ни думал, что бы он ни говорил, от него никогда не услышишь таких выражений, как «по-моему» или «раз я сказал, значит...» Зато когда он один, как сейчас, в поле или на рыбной ловле, это «я» целиком и полностью возвращается к нему. Тогда душа его наполняется, и он начинает жить своей настоящей жизнью. Вот и теперь, безмятежно любуясь расстилавшимся перед ним пейзажем, он чувствовал, как сердце его мало-помалу наполняется теплым ощущением счастья. Мысли о себе, мысли о домашних появлялись и исчезали бесследно, как появляются и исчезают круги на гладкой поверхности воды от падающих изредка капель. Под тремя соснами над самым глубоким местом пруда виднелась крошечная фигурка человека, видимо удившего рыбу. Мияда пристально глядел в его сторону, но не видел его; сознание его затуманилось и погрузилось в легкий полусон. Через некоторое время он вдруг снова пришел в себя. Который час? Блаженный Мияда поднял бамбуковое удилище, о котором было совсем забыл. Приманка исчезла, крючки без единого червяка виновато блеснули над водой. Почему-то ему не хотелось лишать жизни живое существо, хотя бы и червяка, только для того, чтобы поймать жалкую рыбешку. Он бросил удочку на траву и закурил трубку. Внезапно, откуда ни возьмись, перед его глазами промелькнул ястреб, словно танцуя сделал над ним несколько кругов и камнем упал в заросли тростника. Послышался слабый писк. – Ишь ты, сцапал пичужку... Блаженный Мияда подполз ближе, чтобы лучше рассмотреть, что происходит в тростниках, и тут глаза его разглядели в отдалении какой-то необыкновенный предмет, судорожно дергавшийся на тусклой поверхности воды. Это не была птица, нет, и не обломок дерева. – Уж не человек ли... Быть может, это водная рябь играет, на плавучих водорослях? Похоже на то. И все же... Охваченный каким-то предчувствием, он не спеша двинулся вдоль плотины, заложив руки за спину, не выпуская из пальцев трубку, ссутулив спину, обтянутую заплатанной одеждой. – Эй, кто-нибудь, сюда! Эй! Трое крестьян, работавших неподалеку в персиковой роще, удивленно переглянулись и выпрямились. – Эй, сюда! Сюда, к пруду! – Кажись, Блаженный кричит, а? Когда они прибежали к пруду, Блаженный Мияда, совершенно голый, оттаскивал на сухую траву молодого человека, промокшего, как губка. Одежда Блаженного валялась у самого берега. Молодой человек был крупного телосложения, и странным казалось, что спас его маленький тщедушный Мияда. Впрочем, молодой человек совершенно обессилел. Он был жив, ибо сердце его билось, хотя и слабо, но выглядел совершенным трупом и не дышал. Нельзя было терять ни минуты. Было сделано все возможное в таких условиях: спасенного откачали, согрели и подвергли растиранию. По-видимому, спасенный не принадлежал к крестьянскому сословию: весь его вид показывал, что такая вещь, как труд, не знакома ему. Забыв о своей наготе, Блаженный Мияда сидел верхом на молодом человеке и, лязгая зубами от холода, быстро высушившего его мокрую кожу, изо всех сил, покряхтывая, растирал его. Он хотел во что бы то ни стало вернуть спасенного к жизни, и его посиневшее лицо приняло такое не свойственное ему упрямое выражение. В конце концов в результате соединенных усилий всех четверых жизнь начала постепенно возвращаться к молодому человеку. Он легонько вздохнул. Синие ногти порозовели, руки и ноги стали теплыми. Возвратилось сознание, дрогнули веки и губы. Наконец, словно пробудившись от глубокого сна, он пожевал губами и пошевелил руками и ногами. Под пристальным немигающим взглядом Блаженного Мияда, при радостном шепоте остальных, молодой человек, воскрешенный с таким трудом, открыл глаза. О, этот момент! Блаженный Мияда почувствовал, что нечто необъятно широкое заполнило все его существо от ног до головы. На добродушном лице его смешались слезы и улыбка. – Вот как устроен мир... Молодое не умирает, нет! В душе его, словно пламя, вспыхнуло чувство такой радости и любви, каких он никогда еще не испытывал. Мияда потерял голову, его охватило желание упасть ничком на траву и молиться, он разрыдался, как ребенок. Затем он успокоился, напряжение спало, и тут кто-то сильно потряс его за плечо: – Эй, Блаженный, что с тобой? Или прикажешь и тебя еще отхаживать? Понемногу успокаиваясь и всхлипывая, он испытывал ощущение, будто тело его, подвешенное на паутине, спущенной пауком, погружается в глубокий мрак. Он не в силах был поднять голову, но когда его окликнули, он вдруг ахнул и почувствовал, что тело его внезапно сделалось легким и послушным. Он потихоньку поднялся и помог товарищам отнести молодого человека в ближайший крестьянский дом. Спасенный оказался сыном известного в городе галантерейщика Эбия и младшим братом нынешнего хозяина магазина. Когда он назвал себя, все страшно заволновались и принялись наперебой осведомляться о его самочувствии в непривычных для них почтительных выражениях. Они городили несусветную околесицу, что вообще иногда свойственно даже взрослым людям. Молодой человек спросил, кто его спаситель. Они льстиво захихикали: – Вас... это... Блаженный... хе-хе-хе... – Вытащил, конечно... Затем они положили перед молодым человеком его вещи, подобранные на месте происшествия, – корзинку для рыбы и удочки. Но кошелек и серебряные часы они, втихомолку переглянувшись, поместили в такое место, где заметить их было бы трудно, и молодому человеку оставалось только удивляться про себя, раздумывая о судьбе этих предметов. – Смотрите помалкивайте, если что... – Да, да, обязательно... Блаженный Мияда, подталкиваемый со всех сторон кулаками, одевался в углу. Затем он поглядел на молодого человека. Тот уже оправился и, окруженный почтительной толпой, ждал посыльных из дома. Никем не замеченный, с душой, наполненной умилением, Мияда выскользнул через черный ход. II До последнего времени Блаженный Мияда испытывал такое чувство, как будто в душе его обитала тощая бездомная собака, голодная, рыскающая по всему его существу с жалобным прискуливанием. При обычных обстоятельствах он почти не замечал ее, не обращал на нее внимания, но стоило произойти чему-нибудь грустному, неприятному, как тощая собака, дремавшая до того где-то в уголке его сердца, сразу же просыпалась. Просыпалась и принималась бродить по его душе, неслышно ступая мягкими лапами и тоскливо подвывая. Из-под ее лап поднималось и наполняло душу и тело Блаженного Мияда тяжелое чувство одиночества. Порой он не знал, собака ли эта – хозяин его души, или он сам – несчастный хозяин этой собаки. Тяжесть тоски, сводившая его с ума, горечь, которую он старался прогнать и которая вновь и вновь возвращалась к нему, мучила его душу. Но счастье улыбнулось ему. С того момента, когда вчера ему хотелось упасть на траву и молиться, его душа нашла наконец прибежище. Лишь одно это прибежище всегда сияет теплом и светом. Если тяжело, приходи... Если хочется плакать, приди и плачь... Он серьезно думал, что кто-то увидел его сердце – сердце, которое он сам считал сердцем несчастного животного, сердце, в котором хозяйничала тощая собака, – заметил и наконец ниспослал ему покой. «Этот «кто-то» – властелин всего прекрасного в мире...» Так размышлял Блаженный Мияда, охваченный счастьем и умилением, сидя у себя во дворе у циновки, на которой сушились сладкие корешки. Двор был открыт к югу, и тень колодезного журавля от полуденного солнца косо падала на шершавую стену сарая. Вылупившиеся дней двадцать назад цыплята желто-коричневой стайкой копошились у ног наседки, беспрерывно пища пронзительными голосами, наседка отвечала им любовным квохтанием, и звуки эти, смешиваясь, уносились к чистому небу. Послышалось шлепание маленьких босых ног по сырой земле – это сынишка Року вышел на прогулку в сопровождении дочерей Маки и Сада. Мальчуган обнял его сзади за плечо и сейчас же убежал. – Року, не беги, не беги! Ушибешься, будет бо-бо! Погляди на меня. Видишь, папа кушает? Смотри, как вкусно! От сохнущих корешков поднимался запах сладких пончиков. День клонился к вечеру, когда на дворе вдруг появился человек, отрекомендовавшийся приказчиком от Эбия. Он объявил, что хозяева желают выразить Мияда благодарность за вчерашнее, и предложил ему немедленно отправиться в магазин. Приказчик говорил высокопарными фразами, нарочно вставляя в городскую скороговорку простонародные выражения, и с брезгливым видом отгонял ногой цыплят, восхищенно вытягивавших шеи у его необыкновенных черных таби*. * Таби – сшитые из плотной ткани короткие носки с одним пальцем. – А цыплята не боятся... Пораженные Маки и Сада, не обращая внимания на брезгливое выражение физиономии приказчика, остановились как вкопанные и беззастенчиво уставились на его лицо с острым подбородком. Блаженный Мияда не хотел идти. Он оробел перед перспективой переступить порог такого чудесного дома, он не знал, как нужно себя вести, он стеснялся выслушивать благодарность за то, что он сделал. – Прошу вас, не беспокойтесь... Ничего такого я и не сделал... Поверьте, всегда все, что в моих силах... Он знал, что такому бедняку, как он, не пристало отказываться от помощи богатых. Но... душа его была полна и не могла принять благодарности в форме каких-либо подачек. И кроме того, его не покидало смутное сознание того, что, получив награду, он уже не сможет гордиться своим подвигом. Тихонько отгоняя от себя цыплят, распуганных приказчиком, Блаженный несколько раз пытался отказаться. Но приказчик не хотел и слушать. Оглушенный болтовней приказчика, Блаженный Мияда в конце концов покорился. Приказчик шагал и, пренебрежительно сплевывая, разглагольствовал о процветании магазина и о хорошей жизни домочадцев, а Блаженный семенил рядом, неся обычный в провинции зонт из грубой шерсти. В доме Эбия его встретила пожилая – лет пятидесяти пяти – вдова старого хозяина, единовластно ведавшая делами семейства. Старуха сидела за столом, заваленным счетными книгами, у стены, заставленной комодами, служившими денежными ящиками. У нее было мужеподобное лицо, более мужское, чем лицо обычного мужчины, и весь облик ее как нельзя более гармонировал с окружающей ее деловой обстановкой. Сознание, что это действительно всего лишь старая женщина, повергло Блаженного Мияда в смятение. В ответ на его смиренный низкий поклон она сказала: – А-а! Вы и есть Мияда? После первых же звуков ее густого, властного голоса сердце его сжалось, и обычное бегство его «я» совершилось еще более поспешно, более болезненно, чем всегда. Что же касается старухи, то она, зная только, что кто-то спас ее взрослого сына, ожидала увидеть крепкого, сильного телом и духом мужчину. Человек, стоявший перед ней, поразил ее. Ей вдруг стало смешно, она почувствовала, что нелепо будет оказывать уважение этому человечку. Ощущая свое огромное превосходство над оробевшим Блаженным, она выразила благодарность за спасение сына в выражениях, более властных, нежели вежливых. В ее тоне, в каждом ее слове чувствовалось, что уже одно только уважение таких людей, как она, должно восприниматься как высшая форма благодарности. И Блаженный Мияда вовсе не считал себя обиженным. Напротив, он был убежден, что и самое это уважение не заслужено им. «Ведь вы, госпожа, хозяйка дома Эбия, а я всего-навсего жалкий крестьянин». Блаженный Мияда с детства утвердился в вере в некоторые непреложные истины, – в частности, он с великим благоговением ощущал разницу между своим положением и положением старухи. Он поспешно и с готовностью соглашался со всем, что она говорила ему. После нескольких фраз, сказанных скороговоркой, она величественно протянула ему сверток с деньгами. Сверток был пышно перевязан красивой лентой. Увидев его, Блаженный Мияда окончательно растерялся и, запинаясь, отказался: – Спасибо... спасибо... Я никак не могу... Но старухе казалось, что он готов вцепиться в деньги руками и зубами и отказывается только из показной вежливости. Она процедила: – Скромность здесь ни к чему. Затягиваясь трубочкой и щуря глаза от дыма, она глядела на него. Но он не хотел, чтобы ему платили. Он пытался рассказать, почему он не хочет этого, но только сбивчиво повторял, что ему неловко, не умея подобрать нужных слов, не в состоянии даже самому себе объяснить, почему именно ему неловко. И все же ему было неловко. Это неясное «состояние духа» с огромной силой, которую нельзя было ни преодолеть, ни обмануть, владело его сердцем. Душа его сжалась, увяла и укрылась в самых глубоких тайниках его груди. Видя, что он упорствует, старуха замолчала, уставившись на сверток с деньгами. Она была поражена и в то же время испытывала чувство облегчения, словно провела выгодную сделку. С затаенной радостью, но с обиженным видом человека, у которого не приняли подарок, она вздохнула, придвинула к себе шкатулку, сунула в нее деньги и щелкнула замком. Затем достала из-за пазухи старый вылинявший кошелек, из углов которого торчали пучки рваных ниток, вложила ключ и проворчала: – Конечно, эти гроши не деньги для человека, оказавшего услугу на всю жизнь... Она взглянула на склоненную сивую голову Блаженного Мияда, хмыкнула неловко и постучала пальцами по краю пепельницы. III На следующее утро старуха Эбия, как обычно, вышла в свой обширный фруктовый сад. Видя, как Эбия в соломенной шляпе, в грязных момпэ* командует толпой рабочих, обутых в соломенные сандалии, люди говорили с отвращением: – Гляди-ка, ведьма Эбия опять за свое взялась... * Момпэ – род шаровар. Она, конечно, хорошо знала, что ее называют ведьмой. Знала и почему так называют. Но это нисколько не волновало ее. Напротив, когда она слышала: «Ведьма сделала то-то, натворила то-то», она испытывала прилив бодрости. Пусть себе злословят и сплетничают. В конце концов, все это наполовину из зависти. Она видела жителей Цумура насквозь. Она для них, как бельмо на глазу, и как бы она ни поступала, они все равно не скажут про нее хорошего слова. Ведь до самого последнего времени считалось, что лучшей мануфактуры, чем в Цумура, нигде не достанешь, а теперь единственная в городе старинная фирма, торговавшая мануфактурой, совершенно подорвана ее предприятием и хиреет на глазах у всех. Поставь себя на их место, и станет понятно, что они не могут хорошо к тебе относиться, сколько ни лги, сколько ни льсти. Это страшно, но что поделаешь? Как-то раз, во время празднования по случаю открытия моста Сангобаси, ушедший от дел старый Саватори распетушился: я, говорит, так и знал, что она мало пожертвует, поэтому ее и посадили ниже меня, а на вечернее торжество и совсем не пригласили. Он хвастал, что его сын состоит членом муниципального совета, и бахвалился: «Если что случится, не ей тягаться со мной!» В наш век важно деньги иметь, а с деньгами можно сделать что угодно. Взять хотя бы того же Саватори. Говорят, членом муниципального совета он стал лишь благодаря деньгам: это место было им все равно что куплено. Все зависит от ловкости, а раз уж мы родились в такое время, когда деньги важнее всего, то было бы верхом глупости кривляться и болтать о честности. Не уподобляться же тем, кто всячески старается сделать вид, что не хочет сколотить побольше денег! Нет, пусть говорят обо мне все что хотят, а я буду себе копить и копить деньги, наплевать мне на всех... Она не упускала ни одного удобного случая. Если дело сулило хоть малейшую прибыль, она не брезговала ничем и всегда добивалась своего... Придумать такое, что другим и в голову не придет, возвести на человека напраслину – о, в этом у нее не было соперников, и это было самым сильным ее оружием. Она считала, что все такого рода хитроумные идеи ниспосылаются ей самим Буддой, в которого она за последнее время истово уверовала. В ее саду выращивались все сорта фруктов, какие только могла производить эта земля. Когда урожай созревал, первые плоды шли на подношения Будде и предкам, все остальное отправлялось на продажу. Поэтому уходом за садом у Эбия не пренебрегали. По мнению старухи, все батраки и арендаторы были блудливыми котами. Что у них на уме – никому не известно. Поэтому сбор фруктов с каждой ветки от начала до конца производился под ее непосредственным наблюдением. Она не успокаивалась до тех пор, пока не убеждалась, что каждая корзина дошла до амбара. Взмокшая с головы до ног, она металась по саду и надзирала. Но, к несчастью, у нее была только одна пара ног, и пока она находилась в одном месте, работники в поле либо баловались, либо лентяйничали. И сегодня утром старуха не знала ни покоя, ни отдыха. Крупные капли пота стекали с кончика ее носа. Тем не менее мысль о Блаженном Мияда почему-то не выходила у нее из головы. – Странный человек... Бедняк... а вот деньги... Ведь вся сила в деньгах! Утирая пот с лица, старуха обратилась к батраку: – Эй, Сигэ, а ты знаешь этого... Мияда? Что он за человек? – Да как вам сказать... – Чем он живет? Выходит, не так уж и бедствует... – Есть у него небольшой тутовник да маленькое поле. Этим и живет. Да он, госпожа, все равно что сумасшедший... На лице батрака заиграла какая-то двусмысленная улыбка. В эту минуту кто-то явно нарочно кашлянул позади старухи. Она обернулась, но человек уже скрылся куда-то. Когда стемнело так, что не стало видно собственных рук, старуха отпустила работников ужинать, а сама уселась у жаровни и принялась пить дешевый чай. Перед нею всплыл образ робкого, почтительного Мияда, и вдруг она почувствовала, что душа ее вновь открыта воле всемогущего Будды. Миг, и в ее мозгу, подобно вечерним облакам, заклубилась мысль, оформившаяся в следующую же минуту в «замечательный план», услышав о котором люди не могли бы не содрогнуться. Она поделилась этим планом со своим верным приказчиком. То, что должно будет произойти через пять-шесть лет, совершенно отчетливо, воплощенное в цифры, представилось ей. Робость, застенчивость Блаженного Мияда – вот что, очевидно, навело старуху на мысль об этом «замечательном плане». Между тем О-Иси с нетерпением ожидала мужа, рассчитывая, что он вернется от Эбия щедро вознагражденным. Увидев, что он задумчиво бредет назад с пустыми руками, она нетерпеливо спросила: – Эй, отец, а где подарки? Или потом принесут? – Не говоря глупостей, – ответил супруг. Она принялась расспрашивать его и, когда узнала, что он отказался от предложенного ему свертка с деньгами, совсем упала духом, словно внутри у нее все опустилось. Некоторое время она в ужасе глядела на мужа, затем пришла в себя и разразилась неистовой бранью. Обезумев, она поносила его как кошку или собаку и в ярости изорвала зубами свой передник и края рукавов. Мияда никогда еще не видел ее такой разъяренной. Ничего не понимая, оглушенные руганью и тычками, дети забились от страха в угол. Блаженный Мияда гладил их по головам, молчал и терпеливо сносил эту ругань. Такие скандалы продолжались отныне изо дня в день. О-Иси мстила мужу, пользуясь каждым удобным случаем. Она принималась браниться, когда дети просили есть, заявляя при этом, что у нее нет денег, чтобы прокормить их. – Вы надоели мне, – кричала она. – С тех пор как вы появились на свет и путаетесь у меня под ногами, мы стали нищими... Просите у отца, он вам купит. Он богатый человек, он отказался от денег, что ему предлагали. А я сама голодна. День-деньской работаю с утра до ночи, скоро, наверное, сдохну. Это не жизнь! Живите теперь сами как хотите... Отныне О-Иси вставала поздно и, нисколько не беспокоясь о еде, отправлялась к кому-нибудь отводить душу. Хозяйством занималась одиннадцатилетняя Сада, в душе сердившаяся на отца за то, что он так расстроил мать. Мияда глядел, как старшая из дочек моет котел в темной, круглый год грязной канаве, а рядом с ней что-то бормочет растерянная Маки с маленьким капризничающим Року за спиной, и ощущал острое чувство горечи. Дни шли за днями, ему все больше хотелось бежать из этого дома, где все пошло вверх дном, и жить в поле, только в поле. Но там сейчас не было никакой срочной работы. Лежа в тени старого дуба, росшего на краю поля, Мияда погрузился в свои мысли. Небо, ослепительное и прозрачное, словно лазурный свод изумительно искусной отделки... Ароматная земля, обжигаемая яркими солнечными бликами. Блаженный Мияда щурился и размышлял о неизмеримой бесконечности мира. Он размышлял и любовался, и его все сильнее охватывало чувство, что и там, за глубиной синего неба, и там, в могучей глубине земли, что-то есть. Нет, там непременно что-то есть. Что именно? Этого он не знал. Успокоение постепенно, незаметно проникало в самую глубину его существа, а вместе с этим просыпалось чувство умиротворения и любви, которое вытесняло терзавшие его страдания и переполняло всю его душу. – Какая благодать! Необъятная вселенная совершенна, и нет ничего несправедливого в том, что он, ничего не знающий о ней и робкий, мал и ничтожен, в том, что у него бывают горькие минуты. «Некто» внушает разным душам разные мысли. Так стоит ли сердиться, если кто-нибудь мыслит не так, как он, Мияда? Совершенство мира скрыто во всем. Пусть докопаться до него ужасно трудно, но оно все равно сияет где-то на самом дне, и в умилении перед этим совершенством прекрасные, детски-чистые глаза Мияда наполнялись слезами. В жизни бедняка деньги значат больше, чем добрые духи. О-Иси, в бешенстве кусая губы, проклинала своего супруга, этого круглого дурака. Она несла ответственность за благополучие семьи, она одна поддерживала существование полоумного мужа и своих детей – она знала это и немало гордилась этим. И теперь ее гордости нанесен тяжелый урон: муж самовольно вернул полагавшееся ему вознаграждение – совершил поступок, который он, беспомощный и слабый человек, не имел права совершать. О-Иси испытывала такое же сложное чувство – немного отличное по форме, – какое должен испытывать исполненный самодовольства учитель, неожиданно прижатый к стене неприглядным, сереньким учеником. И желание получить в свои руки тот сверток с деньгами еще сильнее терзало ее. Ей чудилось, что в этом свертке, которого она и не видела ни разу, содержалось счастье всей ее семьи, и она возненавидела и прокляла Блаженного Мияда как дьявола, надевшего маску святого, как злого духа, стремившегося разорить и растоптать ее жизнь. Само собой разумеется, в душе О-Иси эти ощущения и переживания не были облечены в такие слова. Они, словно струи воды в перекопанной канаве, сталкивались, перемешивались и перепутывались друг с другом. В конце концов она чуть не лишилась разума и бранилась, злилась, дралась, не отдавая себе отчета в том, что делает. Но вот смерч пронесся, оставив в душе О-Иси такое чувство стыда, что у нее не хватало сил взглянуть в лицо собственным детям. И она убегала куда глаза глядят, чтобы скрыть свое смущение. И как раз в тот момент, когда жизнь опостылела для нее, когда ей казалось, что все видели скрытые мотивы ее поведения и каждый втайне смеялся над нею, что жестоко ранило ее самолюбие, неожиданно снова явился приказчик от Эбия. Он объявил, что им разрешается взять у Эбия все, что они пожелают. Она была ошеломлена, она не знала, что сказать на это, и чувствовала себя вновь возрожденной к жизни. Говоря начистоту, О-Иси считала, что она вправе разыграть из себя упрямицу. Она стала кривляться, как испорченная девчонка, и ни с того ни с сего надулась. Приказчику было отказано. Но лицо О-Иси, когда она услыхала слова «берите все, что пожелаете», пылало от счастья. И она решила, что муж в свое время для того и отказался, чтобы вынудить Эбия на этот шаг. «Но если это так, то для чего же я сердилась?» Тихонько смеясь про себя, она с изумлением и уважением поглядывала на Блаженного Мияда, отвечавшего и на этот раз отказом. Получив отказ, приказчик вздохнул и покорно ушел. Блаженный Мияда был доволен тем, что приказчик не задержался. О-Иси была довольна тем, что Эбия все-таки прислали к ней своего посыльного, и снова в их дом вернулся долгожданный мир. Однако посыльный стал приходить через каждые три дня. Выслушав отказ, он послушно и кротко удалялся. – Все по-прежнему... – говорил он, входя в дом Эбия, и при этих словах старуха от всего сердца хохотала. – Значит, все по-прежнему... Душа ее была преисполнена радости, какую испытывает охотник, спрятавшись в чаще и поджидая зверя, идущего к ловушке. Жертва ничего не подозревает и спокойно и доверчиво приближается к капкану... Эта первобытная радость, охватывающая охотника в такие моменты, вливала в жилы старухи новую жизнь. Она суетилась, нервничала, много говорила, чего никогда не позволяла себе при других обстоятельствах, и то и дело заливалась смехом: – Ух, болван... Но это ругательство было не тем, с каким она, полная ненависти или презрения, обращалась к батракам. Это слово выражало нечто похожее на грубую, жестокую любовь к жертве, которая все ближе и ближе подходила к расставленной ловушке. Старуха гордилась своим тонким планом, близившимся к успешному завершению, и с еще большей энергией бегала и хлопотала с утра до вечера. Трижды она посылала своего приказчика, трижды он возвращался, получив отказ, но она не только не сердилась, но, наоборот, собиралась, по-видимому, продолжать посылать его и в дальнейшем. И тут не только Блаженный Мияда – даже и такая женщина, как О-Иси, почувствовала что-то неладное. Что она задумала? Смутные подозрения возникли у Блаженного Мияда, но он, устыдившись, подавил их. Разумеется, такая почтенная семья не может замышлять чего-либо недоброго по отношению к человеку, спасшему одного из ее членов. Он краснел, когда постыдные подозрения приходили ему в голову, и старался убедить себя, что Эбия посылают к нему приказчика исключительно из добросердечных побуждений. И вот, придя в четвертый раз и получив очередной отказ, приказчик не повернулся и не ушел. Он приступил к осуществлению первой части плана старухи. Незнакомым, напряженным тоном он сказал: – Госпожа разгневана. То обстоятельство, что семья Мияда отвергает все ее попытки вознаградить ее за спасение сына, таит, по ее мнению, какой-то умысел. Она склонна предполагать, что Мияда сам столкнул в воду молодого человека и затем спас его, а теперь отказывается от предложений госпожи в надежде получить что-то большее. Первой разразилась взрывом негодования О-Иси. Дрожащим от ярости голосом, готовая вцепиться в приказчика зубами, заикаясь, она закричала: – Да как у нее язык повернулся говорить такое? Как она смеет распускать такие бессовестные сплетни у нас за спиной? Блаженный – бедный человек, но он всегда был честным... Как она смеет говорить так бессовестно? Да пусть мы какие угодно бедняки... Бледный, с трясущейся на веке родинкой, Блаженный Мияда потянул разъяренную жену за рукав, чтобы успокоить ее. Но женщину уже нельзя было остановить. С силой оттолкнув его руку, она выползла на коленях на середину комнаты, выкрикнула в адрес старухи Эбия несколько ругательств и разрыдалась. Блаженный Мияда окончательно оторопел и растерялся. Он сознавал, что должен сказать что-то, нужные слова теснились в его голове, но он не мог произнести ни звука. Язык его онемел и застыл во рту. Руки его, сжимавшие полотенце, бессмысленно двигались, жалобные глаза глядели на губы приказчика, двигавшиеся, словно хорошо смазанная машина. – Ну-ну, зачем же так сердиться? Ведь и старую госпожу надо понять. Разве она не беспокоилась о вас? Столько раз посылала к вам посыльного, а от вас один ответ: не надо, не нужно. Это кому угодно не понравится. А у старухи всегда так бывает: как натолкнется на такое своеволие, ну и додумается до чего-нибудь этакого... Честно говоря, ничего в этом страшного для вас нет. Подумайте. На этот раз вам следует послушно повиноваться воле госпожи и принять ее предложение. Поверьте, ничего плохого в этом нет. В качестве последней «награды» предлагалось арендовать пустошь на тринадцать мешков риса, с тем чтобы себе брать десять мешков, а хозяйке отдавать три. При этом было сказано, что в случае отказа госпожа поймет, что ее подозрения полностью оправданы. Да разве можно возводить такую напраслину! Очень тяжелое обвинение. В чем здесь дело? Блаженный Мияда раскрыл было рот, но слова вязли на запекшихся губах, он только заикался, и с его языка срывалось только нечленораздельное бормотание. Он низко опустил голову. – Ложь или не ложь, но если старая госпожа так думает, это даром не пройдет. Ведь она и в суд на вас может подать. Нет для человека ничего страшнее такого подозрения. Представить доказательства своей невиновности, покорно следуя воле госпожи, – как хотите, самое лучшее. Суд! Суд! Это слово подобно грому поразило несчастных супругов. Священный ужас перед законом, всегда живой в душе бедного крестьянина, привел их мысли в полное расстройство. Они не думали, правы они или виноваты. Их ум был парализован этим словом: «суд». Действительно, свидетелей не было. Стоило молодому господину сказать: «Да, я помню только, что кто-то сзади толкнул меня в спину», и все пропало. Как они могут доказать, что это было не так? А что, если во время следствия они, измученные допросами, доведенные до отчаяния, скажут в беспамятстве: «Да, так оно и было», – что тогда? Суд, страшный суд... Картина эта встала перед глазами Блаженного Мияда, повергла его в смятение, и он потерял всякую способность соображать. Он дрожал и обливался холодным потом, а приказчик, глядя на него в упор, продолжал, энергично двигая губами: – Подумайте хорошенько. С одной стороны, что ни говори, старуха Эбия. С другой, к сожалению, вы. Как по-вашему, кому поверят люди, когда вы станете отказываться и уверять, что этого не было? Никому и в голову не придет усомниться в словах старой госпожи. Господа судейские тоже будут говорить с вами и со старой госпожой по-разному. Поэтому лучше всего бросьте упрямиться и примите благодарность старой госпожи. Соглашайтесь, и все будем считать улаженным. Соглашайтесь, это самое лучшее. Блаженный Мияда, потерявший под этим жестоким натиском последние остатки разума, даже не слышал слов приказчика. И разумеется, он не был способен осмыслить слабые места обвинения и нелогичность этого предложения. Он просто боялся. Он боялся возведенных на него обвинений. Обрывки мыслей беспорядочно, словно безумные, теснились у него в мозгу. В больших глазах стояли слезы, рот был растерянно открыт. Наконец он зажмурил глаза и прошептал едва слышно: – Я... мы... Извините... Приказчик сейчас же нажал на него: – Ну, согласны? Хорошо. Будем считать, что дело слажено. Теперь поставим здесь печать. Он вытащил из-за пазухи какой-то документ и положил перед Блаженным Мияда. Мияда взглянул, но прочесть не мог. Иероглифы прыгали и расплывались перед его глазами, он ничего не понимал. Наконец приказчик растолковал ему, что это арендный договор. Тогда его охватило еще большее отчаяние. Но отступать было некуда. Он несколько раз хватался за кисть, которую подсовывал ему приказчик, затем наконец вывел иероглифы своего имени и молча приложил под подписью свою печатку.
|
|
© "Русская фантастика", 1998-2001
© Юрико Миямото, текст, 1917 © А. Стругацкий, перевод, 1958 © Дмитрий Ватолин, дизайн, 1998-2000 © Алексей Андреев, графика, 2001 |
Редактор: Владимир Борисов
Верстка: Владимир Дьяконов Корректор: Владимир Дьяконов |