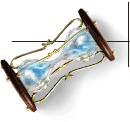
|
|
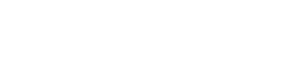
|
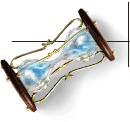
|
|
|
Юрико Миямото Перевод А. Стругацкого IV Арендный участок – тот, который Блаженный Мияда вынужден был с благодарностью принять в качестве награды от Эбия, – представлял собой узкое поле, стиснутое между небольшими холмами. Это был настоящий пустырь, куда почти никогда не заглядывало солнце, где нельзя было найти ни клочка, пригодного под посев риса. В такое запущенное состояние привели этот участок из мести его прежние арендаторы, доведенные до разорения и отчаяния. И глядя на усыпанное камнями поле, настолько изолированное и удаленное от реки, что нельзя было понять, как доставлять сюда воду, Блаженный Мияда невольно вздохнул. С чего же начать? Что нужно сделать, чтобы привести этот истощенный пустырь в мало-мальски приличное состояние? Раз уж получилось так, нужно во что бы то ни стало добиться урожаев – иначе будет плохо. И он, как подневольный, должен был подобно кроту копаться на участке с раннего утра до позднего вечера. Он трудился так, что у него трещали кости, лез из кожи вон, чтобы купить побольше удобрений. Не зная ни минуты отдыха, он работал из последних сил. Но результаты его трудов погибли из-за продолжительных, не вовремя выпавших дождей. Большая часть риса, не дозрев, сгнила на корню. Блаженному Мияда не оставалось ничего, кроме как просить о снижении арендной платы, и за несколько дней до срока он, обливаясь холодным потом, решил поехать к Эбия. О-Иси пыталась успокоить его. Ведь из десятка арендаторов едва ли найдется два-три человека, которые имеют возможность вносить арендную плату так, как было обусловлено договором. «И нечего тут стесняться, ничего тут такого нет, волноваться не нужно», – говорила она спокойно, а Мияда, поражаясь ее отношением к такому серьезному делу, ломал голову, стараясь обдумать, как он будет извиняться перед Эбия. Он представлял себе, что может ответить старуха, когда он явится к ней с такой просьбой, и у него деревенели ноги. На всякий случай, в знак извинения, он нагрузил в телегу свежей редьки и отправился, сжимаясь от страха. В сенях перед кухней он опустился прямо на земляной пол, низко поклонился и, не поднимая головы, стал просить, чтобы ему разрешили внести вместо условленных четырех мешков риса два мешка. Старуха сидела на деревянной площадке* и глядела на Мияда сверху вниз. С губ ее сорвался странный звук, похожий на смешок, – она была в прекрасном настроении и даже сопела от удовольствия. * Часть передней в японском доме занята деревянной площадкой, возвышающейся на двадцать-тридцать сантиметров над полом. Как ни старалась она казаться равнодушной, но губы ее растягивались улыбкой, а сердце прыгало, как у молодой девицы. Все шло так, как она задумала. Если выйдет так, то она сделает так, а если даже выйдет не так, то... Старуха с легким сердцем дала ему свое согласие. Но при этом она объявила, что возьмет остаток арендной платы – стоимость остальных двух мешков – деньгами и заставила Блаженного Мияда написать долговое обязательство. Она ликовала. Такое чувство испытывает молодой щеголь, который представляет себе, как будет выглядеть приглянувшаяся ему одежда, которая вот-вот будет готова, каким красивым он будет в ней и как ему будут завидовать те, кто не в состоянии приобрести себе такой же наряд. Она упивалась своим планом, осуществление которого быстро приближалось. Прошло три года. Несмотря на все усилия Блаженного Мияда, обливавшегося потом на арендованном участке, долги его только росли. Каждый раз, удобряя поле, он думал: «Ну уж в этом году все будет хорошо». Но он не получал и половины ожидаемого урожая. Он задолжал и городской лавке удобрений, и Эбия, ибо податься ему было некуда. Прежде он был просто беден. Он никому не давал в долг, но и сам никогда не брал взаймы. Семья его обходилась тем, что производила сама. Теперь же вся семья постоянно чувствовала на себе тяжкие кандалы, въедавшиеся в ее живое тело. Он стремился во что бы то ни стало избавиться от этих оков, во что бы то ни стало вернуться к прежнему свободному существованию. Но чем отчаяннее он бился, тем плотнее сжимали его кандалы; он цеплялся за малейшую возможность, чтобы облегчить бремя долгов, облегчить свою жизнь, но, несмотря на все его усилия, его хозяйство разрушалось все больше. Из всех углов смотрела нужда, через все щели потоками врывалась она в его дом и, захлестывая его утлую ладью, все глубже погружала ее на дно, где его ожидало какое-то темное, холодное, безглазое существо. На пятый год большой неурожай привел его семью на край катастрофы. После страшного нашествия вредителей началась засуха. Рис гнил стебель за стеблем и наконец сгнил весь на корке засохшей грязи, покрывавшей мертвое поле. И когда на другие поля пришла богатая, радостная осень, что могла принести она Блаженному Мияда? Страх, сжимавший сердце. Крайнюю нужду. Пришла настоящая пустота, та пустота, что страшнее бедности, когда еще можно жаловаться и надеяться. Пусто, нет ничего... Кончилось зерно в амбаре. Денег на покупку нового нет. Чем поддержать жизнь семьи из пяти человек? И в этот момент старуха Эбия нанесла новый удар. «Вы не прислали ни одного мешка риса. Так дело не пойдет. Верните деньги, которые вы задолжали за все это время. До конца года я, так и быть, подожду». Но как вернуть сто с лишним иен, на которые к тому же безо всякого предупреждения начислили десять процентов? Как их вернуть именно теперь, когда семья стояла на грани голодной смерти? «Ах, вы не можете вернуть деньги? В таком случае придется наложить на вашу землю арест». Это и был тот ход, к которому давно готовилась старуха Эбия. С самого начала и до самого конца она действовала так, как подсказал ей ее Будда. Кругом говорили, что все огромные земельные угодия, которыми владели сейчас Эбия, приобретены подобными коварными методами. Большая часть этих слухов вовсе не была следствием простой зависти. Когда она совершала такие поступки, душа ее не мучилась угрызениями совести. Напротив, она чувствовала себя увереннее. Она испытывала беспримерную гордость и не признавала необходимости сдерживать себя. Для чего тигру его клыки? Чтобы пожирать слабых людей и животных, не так ли? Такова же и моя природа от рождения. Старуха была довольна. И на этот раз она тоже была вполне удовлетворена своим ниспосланным свыше талантом. Добившись желаемого и мечтая о многочисленных земельных участках, которые она, вне всякого сомнения, положит к себе за пазуху в дальнейшем, она словно ждала лаврового венка, которого удостаивается победоносный воин по возвращении с поля битвы. Разумеется, если говорить по правде, победа над таким жалким противником при ее бесспорном превосходстве в силе и ловкости вполне естественна и не представляла трудности. И все же она радовалась и гордилась. Все-таки это было состязание. Она была возбуждена, и ее радостное чувство не могло быть выражено скучными обыденными словами о «росте» ее капитала. От всего сердца гордясь своим процветанием, она ждала появления очередных противников с присущими ей самомнением и гордыней. А Блаженный Мияда... Негодовать у него не было сил. Когда явился посыльный от Эбия, он и его жена выслушали его с безучастными, спокойными лицами, словно речь шла о постороннем человеке. В голове Блаженного Мияда был туман, чувства и переживания словно куда-то ушли от него. Что касается О-Иси, то отчаяние ее было беспредельно. Она непрерывно покусывала губы, и какая-то странная насмешливая улыбка блуждала на ее лице. Пока была надежда, пока казалось, что они еще смогут как-нибудь вывернуться, она трудилась изо всех сил, у нее были силы негодовать, но теперь, когда оказалось, что все напрасно, у нее опустились руки. Она лежала ничком у очага и время от времени бросала отчетливые резкие фразы: – Вот так ведьма, эта Эбия... Сосала нас до тех пор, пока не обчистила до нитки. Что же теперь, по миру идти? Ни дома, ни земли... И помощи ждать неоткуда... Блаженный Мияда молчал. Ему уже не нужно было ни земли, ни дома. Он хотел только, чтобы все скорее кончилось. Пусть, как говорила О-Иси, идти по миру, только бы поскорее вырваться из заколдованного круга, в котором он превратился в комок горечи. Сначала он совершенно смирился. Он готов был отдать и дом, и землю, и все, что имел, в любое время, как только этого потребуют. Но сочувствие соседей поколебало его решимость. Все, кто знал о бедствии, постигшем семью Мияда, сочувствовали им. Об Эбия вспомнили все слухи и сплетни, ее называли не иначе как дьяволом и кровососом. Да, усердия, с которым они ругали ее, было бы достаточно, чтобы разорвать ее на куски. Однако, если бы речь зашла о том, чтобы претворить это общественное негодование в действие, люди бы переглянулись и отступили. «Ну... с ней попробуй свяжись...» И один за другим ушли бы в кусты. В критический момент такого рода сочувствие не может играть сколько-нибудь значительной роли. Да, люди были на стороне Блаженного Мияда, они поносили старуху Эбия страшными словами, но это не меняло положения. «Не хватит у нас силенок с ней справиться», – смутно чувствовали и те, кто выражал сочувствие, и те, кому сочувствовали, – особенно первые. И все же, даже когда сочувствие безответственно, очень утешительно слышать, как тебя ободряют, как вместе с тобой переживают твое несчастье, и ты не сердишься, а испытываешь чувство облегчения. Люди говорили пустяки, трогавшие сердце Блаженного Мияда, они старались утешить его с видом полной покорности судьбе. Но какие муки должен был испытывать Блаженный Мияда, когда вместе с вновь вспыхнувшей тоской по земле, уходившей у него из рук, вместе с желанием бороться за нее в нем проснулось смутное ощущение не то ненависти, не то злобы! Об этом никто из соседей Мияда не имел ни малейшего представления. Между тем впавшая в отчаяние О-Иси под влиянием утешений понемногу вновь пришла в себя. Она чувствовала, как с чудовищной силой в ее душе разгорелось пламя всепожирающей ненависти. День и ночь ненависть шептала ей на ухо человеческим голосом: «Сделай же что-нибудь! Сделай! Что бы ты ни сделала, хуже все равно не будет!» Доведенная до исступления, словно во сне, О-Иси кинулась в сарай. Задыхаясь, словно загнанный пес, бурно дыша и сверкая глазами, она принялась сооружать из сваленных там старых соломенных сандалий человеческое чучело. У нее и у ее сверстниц живо было еще старинное страшное поверье, и она решила воспользоваться им. Нужно было вбить в чучело гвоздь и сказать заклинание: «Чтоб сгнили руки-ноги у ведьмы Эбия, чтоб она сдохла, проклятая...» Но несмотря на все ее старания, все разваливалось и рассыпалось под ее руками, и она без передышки осыпала непослушные пучки старой соломы страстными проклятиями. Изнемогая от ярости, растоптав растерзанные клочья соломы, она с пеной у рта повалилась на пол и громко, навзрыд расплакалась. Старухе Эбия наплевать на ее ненависть, на ее заклинания. В глубине души она понимала это очень хорошо, хотя и продолжала выкрикивать ругательства, и от этого ей было еще тяжелее. Сердце ее разрывалось. Обнимая дочерей, она принималась плакать. Встречаясь со знакомыми, она ругалась и угрожала. Ее низкий вдавленный лоб день ото дня покрывался новыми морщинами, по сторонам носа появились горестные складки. Дочери – они уже вышли из детского возраста – сочувствовали горю родителей. Но что нужно делать, как помочь, они не понимали. Они были простодушны и совершенно не знали жизни, и потому решили, что самым лучшим выходом из положения для них будет уйти в город и поступить за харчи в услужение. Дальше этого их воображение не шло. Конечно, видя, в каком отчаянии были их родители, они не могли решиться заговорить с ними о своих планах, но для них самих этот выход не представлялся очень рискованным. Их не покидало ощущение чего-то мрачного, тоскливого, давившего на их сердца. Это угнетало их сильнее, чем несчастье само по себе, и заставляло их непроизвольно искать выход в бегстве из дома. – Маки-тян, доченька, гляди, не вешай носа... – Угу... Девочка отвечала с обиженным видом, словно ее расстраивали эти ободрения, но в действительности она иногда даже не понимала, о чем идет речь. Как ни простодушен был Блаженный Мияда, но он, разумеется, не мог смотреть на вещи так легко, как его дочери. С другой стороны, он не ощущал в себе той способности к слепой ненависти, какую проявляла О-Иси. «Ненавидеть людей, злобствовать – нет, это слишком далеко от великой красоты мира». Он хотел бы забыть о своей жажде мести, о своем чувстве ненависти, но не мог. Эти чувства прочно въелись в его сердце, и он ходил как потерянный. Он ходил по своему полю, с которым ему вскоре предстояло расстаться, и на глаза его набегали непрошеные слезы. Тогда эти большие детские глаза переставали видеть что-либо. «Старая Эбия... моя земля... дети... Чем они будут жить, когда я умру?» Он вспоминал спокойную и свободную жизнь до того, как он спас молодого Эбия, и сердце его сжималось от боли. Он вспоминал счастливое настроение тех безвозвратно ушедших времен. Душа его трепетала от сладостной тоски и теплой грусти. Когда он думал о том, к чему пришло «все это», руки у него опускались. Если бы прежние «радости», прежние настроения вдруг исчезли из памяти, скрылись бы под ненавистью и злобой, все, кажется, стало бы на свое место. Но этого не было. Чем тяжелее становилось горе, тем ярче и отчетливее всплывало в памяти благополучие того времени. Воспоминания преследовали его, и он изнывал от тепла и света прежних времен. Это было нестерпимо. Его мучило не только сожаление о земле и не только ненависть к подлой старухе. Воспоминания о том, что было, терзали его, и вместе с тем он не мог не вспоминать. И он не знал, что делать с собой. Все, что составляло основу его жизни – беспокойство за детей, любовь к семье, наслаждение совершенством мира, – все перемешалось. По его собственному выражению, он «потерялся». Таща на спине тяжелые мешки с белой глиной, Блаженный Мияда скатился по крутому склону. Нужда стала нестерпимой, и он нанялся перетаскивать к городским воротам белую глину, добываемую в окрестных горах, – белую грязь, которую, смешивают с рисовой мукой и употребляют в качестве белил. Обычно рабочие таскали по одному мешку; он же, чтобы получить большую плату, взваливал на себя по два. Он далеко не был силачом, и плечи его болезненно ныли. Постукивая по дороге палкой, вырезанной из толстого сука, шлепая по пыли разбитыми соломенными сандалиями, Блаженный Мияда дотащился до насыпи, оперся о нее своей ношей и перевел дух. Вероятно, здесь устраивали себе отдых и другие кули: сухая трава была примята, вокруг виднелись пятна белой глины. Вытирая выступивший пот, он огляделся. Он был один. В тихом унылом мире уже начал показывать свою силу зимний холод. В увядших зарослях, в верхушках опадающих деревьев гулял ледяной ветер. Туман, вот-вот готовый превратиться в иней, легким покровом стлался в горах, окрашенных в грязноватые оттенки коричневого и фиолетового цвета. Солнечные лучи, словно пробившиеся сквозь густое сито, запутались в ветвях громадной одинокой сайкати, стоявшей неподалеку. Всякий раз, когда налетал порыв ветра, крупные коричневые плоды, полые, с высохшими семенами, издавали тоскливый скрипящий звук. Дзи-дзи... дзи-дзи... Где-то под ногами печально стрекотали цикады. Блаженный Мияда слышал и не слышал их. В душу его снова закрались воспоминания о подлости Эбия. Сколько бы он ни думал, все мысли его вертелись в одних и тех же пределах. Он чувствовал, что его тело и душа тонут в неизмеримой бездне тоски и безнадежности. Что-то, какая-то сила, до сих пор стоявшая позади него и незримо поддерживавшая его, теперь исчезла, устремилась куда-то вперед. Все прошло, а он остался... Все, все, что было, куда-то исчезло... Оглушенный нестерпимым чувством одиночества, он вдруг заплакал. Пустота разъедала его душу. Горькие слезы полились из его добрых глаз, бесцельно уставившихся в пространство, и исчезали в реденькой бородке. V Когда крестьяне управились с жатвой и немного освободились, началось наконец строительство новой дороги, о которой уже давно ходили слухи. К горячему источнику К. в окрестностях города вела только тропинка по склону, по которой небезопасно было ехать и на рикше. Теперь было решено проложить новую дорогу через лес с противоположной стороны, такую, по которой могли бы ходить и автомобили. Блаженный Мияда нанялся на строительство. Сначала он подрядился рубить в лесу просеку. Здесь платили больше, чем за переноску белой глины. К тому же разрешалось собирать мелкие сучья со срубленных деревьев. Лес этот, глубокий, темный, густой и полный жизни, был единственной реликвией благородной древности у города, постепенно грубевшего с развитием цивилизации. Все здесь было напоено счастьем. Множество птиц и насекомых, множество ростков всевозможных цветов и форм, с весны до осени тянущихся из мягкой почвы, смешанной с опавшими листьями, – все это было укрыто под сенью листвы, все могло служить счастью любого живого существа. И внезапно в эту древнюю «счастливую область» вторглись люди, безжалостные и грубые. Один за другим блеснули в воздухе огромные тяжелые топоры. Только что поднявшиеся молодые побеги бесшумно падали, болезненно сотрясаясь, после первого же удара. Старые лесные великаны, в самую сердцевину которых проникали острые лезвия, словно удивляясь этой внезапной перемене, печально раскачивали вершинами, посылая последний привет друзьям долгих лет, и рушились на землю. Раздавался тоскливый треск невысоких молодых деревьев, ломающихся под тяжестью старых замшелых стволов. Содрогалась земля. Сквозь этот шум слышны крики: – К югу, отходи к югу... Тррах! Откуда-то доносится грохот. Рухнуло еще одно большое дерево. Дружно стучат деловитые топоры. Тук-тук... тук-тук... тук-тук... На опушке грузят на телеги древесину, и к крикам лесорубов примешиваются голоса возчиков и хлопание кнутов. Веселые парни поймали ослепленную солнечным светом сову и бегут куда-то, таща ее за крылья вниз головой. До сих пор в лесу царили тишина и спокойствие. Каждый знает это, и шум вызывает теперь какое-то неприятное чувство. Беспокойная грубая суета в лесу проникает и в город. Когда по улицам провозят великолепные стволы, лишенные ветвей, все делают привычно-равнодушные лица, но что-то переворачивается в глубине души у каждого. Конечно, вырубать жалко, но все же как интересно собственными руками валить такие огромные деревья... Голые деревья с обрубленными до половины ветками, на которых не осталось ни одного листа, мрачно вонзались в пепельное небо. Потерявшие гнезда птицы по вечерам с плачем носились над головами лесорубов. И при виде всего этого Блаженный Мияда временами не мог заставить себя опустить занесенный топор. Тяжкие вздохи лесных духов вливались в его душу, и грудь его болела от тоски. Деревья ведь тоже живые существа. Пусть они не могут говорить, но разве поэтому нужно так беспощадно рубить их, с каким-то удовольствием, словно издеваясь над всяким проявлением жалости к ним? Разве нельзя было как-нибудь обойтись без этого? Чудесный лес, стоявший столько веков, птицы, вившие себе в нем гнезда, трава, грибы – все уничтожено. Уничтожено только для того, чтобы здесь могли пройти несколько старых автомобилей. Что в этом хорошего? По мнению Блаженного Мияда, люди всегда теряют голову, когда дело касается их интересов, и зачастую понимают свои интересы неправильно. Но он, конечно, никому не говорил об этом. Он никогда ничего не говорил. Он работал молча, как муравей, и товарищи прозвали его «глухим Мияда». Считалось, что он способен только работать, словно бессердечная машина, словно хорошо налаженный механизм. Постепенно лес был вырублен. Вскоре наступила зима. Из-за обильного снега Блаженный Мияда был вынужден сидеть дома и взял в городе подряд на плетение грубых корзин и садков для шелковичных червей. Как и в прежние годы, из города в деревню явились агенты текстильной фабрики для вербовки работниц и принялись обходить дворы. На текстильную и муслиновую фабрики брали даже десятилетних детей. Получив немного денег в качестве аванса, девочки на десять-пятнадцать лет становились ученицами, а затем работницами. В деревнях не видели в этом ничего необыкновенного. Блаженный Мияда услыхал, что кто-то из соседей говорит: – Что, десять иен? Это еще неплохо. Когда я был таким, как вы, мы получали меньше. Сравните с рыночными ценами, и вы увидите, что это выгодно. Его старшей дочери исполнилось шестнадцать, младшей – тринадцать лет. Гладкие заманчивые речи вербовщика вызывали у девочек огромное любопытство. Любопытство без цели, любопытство, которое не ждало удовлетворения. Просто им захотелось одеться в кимоно и, распевая песни, тянуть нити. Работать на городской фабрике! В этом что-то манящее, исполненное непостижимой славы и радости, чего нельзя получить, если оставаться здесь, в деревне. Когда одна из их подруг с гордостью объявила им, что решила поступить на фабрику, они почувствовали в этом нечто серьезное и важное и то и дело удалялись для тайных бесед то в тень амбара, то на дальний конец поля. Хотя они разговаривали там с чрезвычайно значительным видом, но дело в сущности было простое: – Слушай, Сада-тян, в доме Син-тян говорили, что на фабрике каждый день кормят мясом и даже дают одежду... Уж чем оставаться в нашем нищем доме, может лучше тоже уйти? Как ты думаешь? Спросим у матери? – И правда, мне бы тоже хотелось уйти. Если мы уйдем вместе, страшного, пожалуй, ничего не будет... После этих слов им уже не о чем было ни говорить, ни думать, и они, словно целиком уйдя в свои мысли, погружались в молчание, тесно прижавшись друг к другу, но младшая, Маки, иногда вдруг начинала мечтать совсем о другом и даже переставала понимать, зачем они, собственно, пришли сюда и для чего здесь стоят. В то время как они никак не могли решиться раскрыть свой секрет, их мать О-Иси в глубине души лелеяла ту же мысль, хотя тоже не решалась первой заговорить об этом. Разумеется, в том тяжелом положении, в котором оказалась семья, избавиться хотя бы от двух едоков было уже само по себе большое дело, да еще сверх того можно будет получить какой-то доход. И притом ведь они уже не дети... И когда дочери наконец обратились к ней за разрешением, она испытала громадное облегчение. Все трое сейчас же сказали о своем плане Блаженному Мияда. Впрочем, для О-Иси это было пустой формальностью, необходимой только для соблюдения престижа отца семейства. Даже если бы он и решительно запротестовал, она все равно твердо решила добиться своего. Разговор прошел очень гладко. Но Блаженный Мияда совершенно не знал города и не мог судить об этом деле с должной ответственностью. – Трудно мне указывать вам. Если только вы будете счастливы, то, конечно, надо ехать. Мне все равно, были бы вы только счастливы. Больше мне ничего не надо. Девочки не смогут добиться в жизни счастья с таким отцом, как он, неспособным разумно жить на свете. Значит, он не может запретить им уехать из дома и поступить на работу. Не может, потому что любит их. Нельзя заставить их против их воли разделить участь семьи, обреченной на верное разорение. Это было бы слишком мучительно для него. Пока он колебался, не зная, на что решиться, переговоры шли успешно. Дочери наконец завербовались на пять лет и отправились в город. Родителям было выслано двадцать пять иен. Девушки отправились в город радостно, как на праздник, но Блаженный Мияда при виде денег, полученных в обмен на подписанный договор, почувствовал, что сердце его больно сжалось. «Я виноват перед ними, и что бы ни случилось, этих денег мы трогать не будем», – решительно заявил он О-Иси. Затем тайно от нее он спрятал деньги на дне старой корзины. Он, конечно, и думать не мог, что О-Иси, перевернув в поисках дом вверх дном, в конце концов нашла их и из предосторожности на всякий случай носила их теперь всегда при себе. А он полагал, что деньги – старая десятииеновая бумажка, подклеенная полоской бумаги, новенькая десятииеновая бумажка и еще пять иен – все еще лежат, завернутые в почерневшее тряпье на дне корзины. Между тем шли дни, и душа его, которая, казалось бы, должна была теперь целиком обратиться на единственного оставшегося в доме ребенка – сынишку Року, тосковала только по ушедшим дочерям. Он носил их на руках, когда они были малютками. Раньше он не думал, что будет себя чувствовать без них таким одиноким. Он не мог предположить, что они придают его дому такой уют и такую прелесть. Но теперь, когда их не стало, осталась только какая-то тоска и чувство неудовлетворенности. Замолкла веселая болтовня, звонкий смех, словно внезапно перестал бить под окном освежающий фонтан, к которому все давно привыкли. Отзвуки их голосов то и дело воскресали в его памяти, вызывая в нем чувство нестерпимо горькой любви. Казалось, жизнь в доме как-то обеднела, когда уехали девушки, оглашавшие его беготней и громким смехом. В углу сеней или в амбаре, где были свалены старые красные гэта и поношенная одежда, Блаженный Мияда истово молился о ниспослании счастья дочерям, которые по неграмотности не могли даже известить его в письме о том, как они живут. Как всегда. Блаженный Мияда был землекопом. Дорога шириной около девяти метров должна была протянуться на полкилометра совершенно прямо, затем от глубокой впадины изгибом спуститься по склону и подойти вплотную к горячим источникам. Когда наступал полдень, кто-нибудь из товарищей Блаженного Мияда оглядывался на него. Мияда работал немного позади, усердно размахивая мотыгой. – Слушай, отец, свари-ка чаю! В самом деле, ведь уже полдень, эй, папаша! Блаженный Мияда покорно отправлялся в небольшую грязную хибарку, брал там большое ведро и, волоча коченеющие в носках ноги, плелся к ручью, протекавшему в сотне метров от места работ. Это стало его ежедневной обязанностью. Ведь верно, простак Мияда все равно что машина. Что ни сделай, никогда не ругается, слова единого не скажет. Такой безответный дядька, стоит только попросить – ни в чем не откажет. Товарищи, уважавшие только кичливых шалопаев, хвастунов и горлодеров, относились к робкому, молчаливому Мияда свысока. Они наперебой пользовались тем, что составляло самые прекрасные и в то же время слабые черты его характера, – безусловной честностью и сдержанностью. Впрочем, они не сознавали отчетливо, что стремятся использовать его. Просто, поскольку Блаженный Мияда ни от чего не отказывался, его заставляли выполнять самые неприятные поручения. Видя его покорность, они становились все бесстыднее и наглее и распоряжались им как мальчиком на побегушках. Действительно, для них это был единственный случай утвердить в собственных глазах свое чувство собственного достоинства, и они делали это за счет Блаженного Мияда. Так в большом доме, где много слуг, человек добродушный, который никогда не говорит плохого о других, неизбежно становится прислужником своих дерзких и нахальных товарищей. Ведро было большим, но дырявым. Поэтому, пока Мияда нес его обратно, в нем оставалось меньше половины. Кроме того, так как время было холодное, то люди мылись горячей водой и согревались, наливаясь бесплатным кипятком. Их было около десяти человек, и одного ведра не хватало. Посиневший от стужи Мияда ходил еще раз. Когда он возвращался, его товарищи уже успевали разжечь костер из собранных щепок и толпились вокруг огня, стараясь обогреться. – Скорее, дядя, заждались! Окоченевшими пальцами он ставил на огонь котелок. Он, самый старый из всех, вынужден был сидеть позади товарищей, спины которых загораживали тепло. Съежившись в комок и обхватив колени, Блаженный Мияда рассеянно глядел на огонь в промежуток между мощными запыленными плечами товарищей и погружался в свои обычные бесплодные думы. Но в последнее время он никак не мог собраться с мыслями. Да у него и не было больше воли думать. Ему просто хотелось посидеть спокойно, забыться. Так было не впервые. Все чаще и чаще за последнее время он не слышал, что ему говорили. Временами ему казалось, что он впадает в детство. Его душа, измученная горькой жизнью, жаждала покоя. Она хотела уйти и укрыться от этого жестокого мира. Но он не мог. Он даже не замечал этого стремления своей души. И он думал, что наступает старческое слабоумие. Но ему даже не хотелось стать молодым, чтобы снова воспрянуть духом. Сердце его было словно окутано каким-то туманом, в котором застревали внешние впечатления. А в глубине этого тумана поселилось нечто, не имеющее ни цвета, ни формы, словно мгла, – чувство тоскливого одиночества. Между тем работа успешно близилась к завершению. Через несколько дней участки дороги, прокладываемые с двух сторон, должны были встретиться точно в назначенном месте. Предстояло убрать с дороги громадный каменный каток. Погода в этот день была прекрасная. С раннего утра сияло не по сезону теплое солнце. Когда оно взошло, казалось, что наступила весна. Закончив работу на своем участке, Блаженный Мияда с чувством огромного облегчения, словно сбросив с себя тяжелый груз, растянулся на солнце у обочины дороги и закурил. Давно уже табак не казался ему таким приятным. Солнце согревало все его тело, руки, ноги, веки охватила сладостная истома. Внизу видно, как от корней золотисто-коричневых рощ поднимается пар горячего источника, медленно всползает к ветвям и вершинам, а ледяные иглы, усыпавшие деревья, сверкают, как хрусталь. В воздухе раздаются голоса товарищей, звон мотыги о камень. Все эти звуки кажутся радостными, приятными. Чувство несказанной свободы охватило Блаженного Мияда и пронизывало то, что подобно каплям росы гнездилось в глубине его сердца. Глаза его затуманились, все покрылось тонкой дымкой, поплыло тончайшими красками. Звуки, доходившие до его ушей, утратили всякий смысл – они лишь слегка задевали слух и проносились мимо. Все это – и звуки, и краски – осаждалось на дне его души, как мелкие камешки погружаются в глубокую прозрачную воду. Выстроившись в ряд, рабочие с криками изо всех сил навалились грудью на рукоять катка. Но каток не требовал столько усилий. Он стоял на пологом склоне и легко покатился вниз. Люди только для вида налегали на рукоять, смеясь и перекидываясь шутками, обрадованные, что работа оказалась такой легкой и сейчас кончится. Каток покатился, как живой. Внезапно из толпы рабочих донесся испуганный вопль: – Эй! Человек! Человек!! Все остановились, и в тот же миг рукоять отделилась от них. Трах-тах-тах... С чьих-то губ сорвался крик: – Камень! Камень! Уходи скорее! Увлекаемый инерцией каток скрыл под собой фигуру спящего человека, тяжко навалился и качнулся назад. Затем замер и больше уже не двигался. VI Страшная зима осталась позади. Дожди и солнце в должное время вновь вдохнули в землю жизненные силы, и все воскресло. Внизу, на пашне, покрытой водой, в которой кишели головастики и носились «тякутори» – личинки тараканов, расцвели травы и мхи, бледно-фиолетовый горицвет. Все реки и речушки поднялись от талого снега, потеряли свой унылый зимний облик и выглядели так, словно с ума посходили от радости. Волны нежно перешептывались и смеялись, то заливали берега, то шаловливо неслись куда попало. На оживших берегах в щелях между камнями повсюду появились зеленые ростки молодой травы. Из чащи колючего кустарника, из зарослей ивняка радостно звучало наивное щебетание птенцов жаворонка. Набухли почки тутовых деревьев, вытянулись злаки, быстро оживали поля. А О-Иси, у которой Эбия уже отняли ее поле, каждый день нагружалась старым тряпьем и дешевыми сладостями и отправлялась торговать в соседние деревни. Блаженный Мияда бессмысленно погиб. Земельный участок отобран ведьмой. Все на свете опостылело О-Иси. Казалось, она перестала любить даже единственное оставшееся у нее родное существо – сына Року. Привычка к труду, укоренившаяся в ней с ранней молодости, куда-то исчезла. Боги, несмотря на все обеты, которые она им приносила, не помогли ей. Она потеряла в них веру и жила теперь как придется – лишь бы прошел день. Под разными предлогами у нее отняли все, что она имела, даже дом, и ей пришлось переселиться в амбар. Утром она вставала, завтракала, взваливала на спину свою ношу и уходила, а возвращалась когда придется. Скоро это вошло у нее в привычку. Девятилетний Року жил так, словно у него и не было матери. Когда он просыпался, О-Иси, как правило, уже не было дома. Набегавшись за день и устав, он засыпал у очага. О-Иси в это время еще не было. В школу он не ходил, ругать его за это было некому. Он вел жизнь, в которой все хорошие и плохие черты характера детей его возраста причудливо переплелись между собой, и иногда он был хорошим, а временами – невыносимо скверным мальчиком. Року был ребенком нищей семьи в нищей деревне, и воспитания и культуры в нем не было и быть не могло. Никто не хотел дружить с ним. А если иногда ребята и брали его в свою компанию, он испытывал нестерпимую досаду, когда они, показывая ему иероглифы, спрашивали его: – Року-тян, а ты знаешь этот иероглиф? Он сторонился сверстников и проводил дни в полном одиночестве, целыми днями напролет бродил босиком у реки и в горах. Куда бы он ни пошел, горы всюду прекрасны. В горах полным-полно интересных вещей. Но особенно он любит гору Татэ, куда раньше ему случалось входить вместе с сестрами за сосновыми шишками. Вот проносится ветерок, и раздается особый, ни с чем не сравнимый шум, словно начинает раскачиваться множество ветвей сосен на вершине горы. Слушать эти звуки лежа, раскинувшись на траве, и глазеть по сторонам было для Року верхом блаженства. – Как красиво... Здесь мне все нравится... Действительно, мир, раскинувшийся внизу, под высокой горой, прекрасен. И он не может не нравиться. Все внизу выглядит таким крошечным, ладным, стройным, все расположено не слишком близко и не слишком далеко друг от друга, как раз так, как нужно. Старики рассказывают, что давным-давно, когда люди были еще покрыты шерстью и имели хвосты, точно кошки, какие-то великаны скуки ради создали эти горы. Позже в долине, окруженной горами, словно зеленая щетина поднялись великолепные леса и рощи. Городские домики сбились в кучу, как будто для какого-то важного разговора, и на их крышах тускло блестит красная черепица. Ползет поезд, похожий на мохнатую гусеницу, и скрывается вдали. Внизу извивается река. Она уползает далеко-далеко и впадает в другую, большую реку, виднеющуюся у горизонта. А вдали медленно двигаются крошечные, как баклажанные семечки, вьючные лошади, которых погоняют еще меньшие, величиной с конопляное зерно, люди. И все это можно окинуть одним взглядом. Шум реки и шорох деревьев, доносящийся откуда-то приглушенный грохот барабана сливаются в мягкую и нежную музыку. Эта музыка, словно колыбельная песня, убаюкивает душу ребенка. Эти звуки и краски всегда производили чарующее действие на простодушное сердце Року. Реки и города, о которых говорили взрослые, горы, реки, шумные улицы, до которых, как ему казалось, он умер бы, а не смог бы добраться, так невыразимо далеко они находились, были тут, перед его глазами. – Ого-го! – кричал он изо всех сил. – Ого-го... – отзывался из-за облаков кто-то невидимый. – Ого-го-го! – О-о-го-го... «Хочу летать! Хочу туда, за те высокие горы. Хочу взглянуть на людей, живущих в мире, который не снился и во сне». Фантастические замыслы кружили голову ребенка, уносили его вдаль, как крылья птичек, время от времени проносившихся над его головой, и разворачивались перед ним радостной, бесконечной вереницей. Солнце спускалось к горам. Мир туманился оранжевым светом, горная зелень окутывалась сизой дымкой. Тогда Року, озаренный вечерним солнцем, спускался с горы в сторону, противоположную той, откуда он поднимался. Он шел среди цветущих фиалок, шагал через чистые звенящие ручьи и полями возвращался домой. Еще месяц назад в городе было организовано так называемое «Акционерное общество подвесной дороги». На окраине соорудили постройку, которую назвали станцией, – отсюда управляли перевозками и следили за порядком погрузки. Дорога была построена для того, чтобы обслуживать поселки в глубине гор, сообщение с которыми было затруднено. Подвесная дорога позволила переправлять оттуда в город добываемый там камень, древесный уголь и руду, а из города доставлять туда для продажи различные товары. От здания, похожего на грубую хижину, потянулись до горного поселка столбы, отстоящие друг от друга на десять метров, на столбы были натянуты стальные тросы, по которым скользили подвесные вагонетки; посередине линии была сооружена еще одна станция. И наконец в середине июля движение на дороге было открыто. Разумеется, Року немедленно отправился поглядеть. Он был поражен. Здесь все было удивительным и необыкновенным. Только и оставалось, что разевать от удивления рот. С утра и до вечера, от начала работы дороги и до конца, он простаивал возле станции, глядя на эту «странную штуку». Любопытство его было ненасытно. Однажды он, как всегда, вышел из дома и направился к станции. И вдруг, выйдя на опушку небольшой рощи, он увидел нечто поразительное. Чудесный маленький стул, выкрашенный в красный цвет, двигался по небу с какой-то ношей. Двигался он как-то удивительно весело, беззаботно. Мальчик никогда не подозревал, что работу подвесной дороги можно наблюдать отсюда. Стул проплыл над лесом. Как высоко! Высоко... Через гору... Через реку... Внезапно его осенила идея. – Я, я сяду на этот стул! Сяду и полечу, как птица! Ему казалось, что сердце его вот-вот выскочит у него из груди. Он скатился по склону, подбежал к домику, в котором помещалась станция, и ухватился за край готовой отправиться вагонетки. – Посадите меня, дяденьки! Я хочу полететь! – закричал он, прижимаясь к вагонетке всем телом. – Ах ты чертенок! А ну, как перевернешься, что тогда? – Пошел отсюда, слышишь? Упадешь – разобьешься вдребезги... – А, ничего. Пускай его. Не упадет же эта штука от одного такого мальца или даже от двух. Ведь когда открывалось движение, господин чиновник из мэрии прокатился на ней до самой Монива. Ничего, пусть садится. Эй, паренек, садись, да гляди, вернись с обратной вагонеткой, а не то выпорю... Маленькое тело Року хорошо уместилось в ковше вагонетки. Он был как во сне от радости. Немного успокоившись и придя в себя, он увидел, что город остался позади. Вагонетка неслась вдоль какой-то реки. На берегу рабочий дробил камень. Вот он опустил молот. Прошло некоторое время, и донесся звук удара. Взмах молота и затем звук удара. Тук... тук... тук... Постепенно эти звуки замерли вдали; внизу появилась густая роща. Молодая листва беспрерывно шептала о чем-то, ветви прижимались друг к другу, склонялись одна к другой, улыбались и начинали смеяться. Вот одна ветка, точно шаля, подняла голову, заморгала, жмурясь от солнца, и проводила взглядом мальчика, пронесшегося над нею. – Глядите! Другие ветви, шелестя, взглянули вверх и тоже увидели его. – Глядите, человеческий детеныш! – Да, там наверху... Вот смешно! – В самом деле, такой маленький! – Ну и чудеса! Они шумно шевелились, переговариваясь, сталкивались и цеплялись друг за друга, чтобы лучше его разглядеть. Чш-ш-ш-ш... Прохладное, свежее благоухание охватило Року. Под ногами ворковал горный голубь. – Какко... какко... – раздался где-то звонкий голос кукушки. Плющ, обвивавший ветви деревьев, тянулся к Року. Цветущие там и сям белые лилии, сияя под солнцем, манили его к себе. Року был вне себя от гордости и восторга. «Весь мир лежит подо мною, покорный, как вассал». «Я лечу по небу легче птицы. Я, один только я!» Трос все дальше и дальше уносил Року в глубь гор. А Року чувствовал себя великим владыкой. Все прекраснее и удивительней становились перед ним пейзажи. Все тише и спокойнее становился мир. И Року захотелось лететь. Лететь! Лететь к тем снежным пикам... Он слегка подался вперед. В ту же секунду вагонетка потеряла равновесие. Ему показалось, будто вся вселенная от края и до края одновременно вскрикнула. Он услышал этот крик, в ту же секунду его тело, словно искра солнечного света, стремглав полетело вниз, прямо в расстилавшуюся внизу рощу... 1917
|
|
© "Русская фантастика", 1998-2001
© Юрико Миямото, текст, 1917 © А. Стругацкий, перевод, 1958 © Дмитрий Ватолин, дизайн, 1998-2000 © Алексей Андреев, графика, 2001 |
Редактор: Владимир Борисов
Верстка: Владимир Дьяконов Корректор: Владимир Дьяконов |