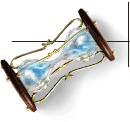
|
|
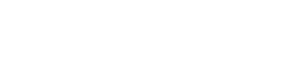
|
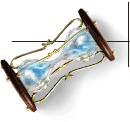
|
|
|
ПЯТЬ ЛОЖЕК ЭЛИКСИРА
Время действия: наши дни, поздняя весна. Место действия: крупный город, областной центр на юге нашей страны.
Двухкомнатная квартира писателя средней руки Феликса Александровича Снегирева. Обычный современный интерьер. Кабинет идеально прибран: все полированные поверхности сияют, книги на полках выстроены аккуратными рядами, кресла для гостей, полосатый диван – красивы и уютны, пол чист и блестит паркетом. Порядок и на рабочем столе: пишущая машинка зачехлена, массивная стеклянная пепельница сияет первозданной чистотой, рядом затейливая зажигалка и деревянный ящичек, наполовину заполненный каталожными карточками. Два часа дня. За окном – серое дождливое небо. Феликс – у телефона на журнальном столике под торшером. Это обыкновенной наружности человек лет пятидесяти, весьма обыкновенно одетый для выхода. На ногах у него стоптанные домашние шлепанцы. – Наталья Петровна? – говорит он в трубку. – Здравствуй, Наташенька! Это я, Феликс... Ага, много лет, много зим... Да ничего, помаленьку. Слушай, Наташка, ты будешь сегодня на курсах?.. До какого часу? Ага... Это славно. Слушай, Наташка, я к тебе забегу около шести, есть у меня к тебе некое маленькое дельце... Хорошо? Ну, до встречи... Он вешает трубку и устремляется в прихожую. Быстро переобувается в массивные ботинки на толстой подошве, натягивает плащ и нахлобучивает на голову бесформенный берет. Затем берёт из-под вешалки огромную авоську, набитую пустыми бутылками из-под кефира, лимонада, «Фанты» и подсолнечного масла. Слегка согнувшись под тяжестью стеклотары, выходит он на лестничную площадку за порогом своей квартиры и остолбенело останавливается. Из дверей квартиры напротив выдвигаются два санитара с носилками, на которых распростерт бледный до зелени Константин Курдюков, сосед и шапочный знакомый Феликса, третьестепенный поэт городского масштаба. Увидев Феликса, он произносит: – Феликс! Сам господь тебя послал мне, Феликс!.. Голос у него такой отчаянный, что санитары враз останавливаются. Феликс с участием наклоняется над ним. – Что с тобой, Костя? Что случилось? Мутные глаза Курдюкова то закатываются, то сходятся к переносице, испачканный рот вяло распущен. – Спасай, Феликс! – сипит он. – Помираю! На коленях тебя молю... Только на тебя сейчас и надежда... Зойки нет, никого рядом нет... – Слушаю, Костя, слушаю! – говорит Феликс. – Что надо сделать, говори... – В институт! Поезжай в институт... Институт на Богородском шоссе – знаешь?.. Найди Мартынюка... Мартынюк Иван Давыдович... Запомни! Его там все знают... Председатель месткома... Скажи ему, что я отравился, ботулизм у меня... Помираю!.. Пусть даст хоть две-три капли, я точно знаю – у него есть... Пусть даст! – Хорошо, хорошо! Мартынюк Иван Давыдович, две капли... А чего именно две капли? Он знает? На лице у Кости появляется странная, неуместная какая-то улыбка. – Скажи: мафуссалин! Он поймет... Тут из Костиной квартиры выходит врач и напускается на санитаров: – В чем дело? Чего стоите? А ну, давайте быстро! Быстро, я говорю! Санитары пошли спускаться по лестнице, а Костя отчаянно кричит: – Феликс! Я за тебя молиться буду!.. – Еду, еду! – кричит ему вслед Феликс. – Сейчас же еду! Врач, воткнув незажженную «беломорину» в угол рта, стоит в ожидании лифта. Феликс испуганно спрашивает его: – Неужели и вправду ботулизм? Врач неопределенно пожимает плечами: – Отравление. Сделаем анализы, станет ясно. – Мартынюк Иван Давыдович, – произносит Феликс вслух и, когда врач взглядывает на него непонимающе, торопливо поясняет: – Нет, это я просто запоминаю. Мартынюк, председатель месткома... Мафуссалин... Дверь лифта раскрывается, и они входят в кабину. – А как вы полагаете, – спрашивает Феликс, – мафуссалин этот и от ботулизма поможет? – Как вы сказали? – Мафуссалин, по-моему... – произносит Феликс смущенно. – Впервые слышу, – сухо говорит врач. – Какое-нибудь новое средство, – предполагает Феликс. Врач не возражает. – Может быть, даже наиновейшее, – говорит Феликс. – Это, знаете ли, из того института, что на Богородском... Кстати, а куда вы моего Курдюкова сейчас повезете? – Во Вторую городскую. – А, это совсем рядом... У неотложки они расстаются, и Феликс, гремя бутылками, бежит на середину улицы останавливать такси.
Выбравшись из машины, Феликс поудобнее прихватывает авоську и, кренясь под ее тяжестью, поднимается по широким бетонным ступенькам под широкий бетонный козырек институтского подъезда. Навалившись, он распахивает широкую стеклянную дверь и оказывается в обширном холле, залитом светом многочисленных ртутных трубок. В холле довольно много людей, все они стоят кучками и дружно курят. Феликс зацепляется авоськой за урну, бутылки лязгают, и все взгляды устремляются на авоську. Ежась от неловкости, Феликс подходит к ближайшей группе и осведомляется, где ему найти Мартынюка, председателя месткома. Его оглядывают и показывают в потолок. Феликс идет к стойке гардероба и вручает гардеробщику свой плащ и берет. Пытается он всучить гардеробщику и свою авоську, но получает решительный отказ и осторожненько ставит авоську в уголок. На втором этаже он открывает дверь в одну из комнат и вступает в обширное светлое помещение, где имеет место масса химической посуды, мигают огоньки на пультах, змеятся зеленоватые кривые на экранах, а спиною к двери сидит человек в синем халате. Едва Феликс закрывает за собой дверь, как человек этот, не оборачиваясь, рявкает через плечо: – В местком! В местком! – Ивана Давыдовича можно? – осведомляется Феликс. Человек поворачивается к нему лицом и встает. Он огромен и плечист. Могучая шея, всклокоченная пегая шевелюра, черные, близко посаженные глаза. – Я сказал – в местком! С пяти до семи! А здесь у нас разговора не будет. Вам ясно? – Я от Кости Курдюкова... От Константина Ильича. Предместкома Мартынюк словно бы налетает с разбегу на стену. – От... Константина Ильича? А что такое? – Он страшно отравился, понимаете, в чем дело? Есть подозрение на ботулизм. Он очень просил, прямо-таки умолял, чтобы вы прислали ему две-три капли мафуссалина... – Чего-чего? – Мафуссалина... Я так понял, что это какое-то новое лекарство... Или я неправильно запомнил? Ма-фус-са-лин... Иван Давыдович Мартынюк обходит его и плотно прикрывает дверь. – А кто вы, собственно, такой? – спрашивает он неприветливо. – Я его сосед. – В каком это смысле? У него же квартира... – И у меня квартира. Живем дверь в дверь. – Понятно. Кто вы такой – вот что я хочу понять. – Феликс Снегирев. Феликс Александрович... – Мне это имя ничего не говорит. Феликс взвивается. – А мне ваше имя, между прочим, тоже ничего не говорит! Однако я вот через весь город к вам сюда перся... – Документ у вас есть какой-нибудь? Хоть что-нибудь... – Конечно, нет! Зачем он вам? Вы что – милиция? Иван Давыдович мрачно смотрит на Феликса. – Ладно, – произносит он наконец. – Я сам этим займусь. Идите... Стойте! В какой он больнице? – Во Второй городской. – Чтоб его там... Действительно другой конец города. Ну ладно, идите. Я займусь. – Благодарю вас, – ядовито говорит Феликс. – Вы меня просто разодолжили! Но Иван Давыдович уже повернулся к нему спиной. Внутренне клокоча, Феликс спускается в гардероб, облачается в плащ, напяливает перед зеркалом берет и поворачивается, чтобы идти, но тут тяжелая рука опускается ему на плечо. Феликс обмирает, но это всего лишь гардеробщик. Античным жестом он указывает в угол на проклятую авоську. Феликс выходит на крыльцо, ставит авоську у ноги и достает сигарету. Повернувшись от ветра, чтобы закурить, он обмирает: за тяжелой прозрачной дверью, упершись в стекло огромными ладонями и выставив бледное лицо свое, пристально смотрит на него Иван Давыдович Мартынюк. Словно вурдалак вслед ускользнувшей жертве.
Народу в трамвае великое множество. Феликс сидит с авоськой на коленях, а пассажиры стоят стеной, и вдруг между телами образовывается просвет, и Феликс замечает, что в этот просвет пристально смотрят на него светлые выпуклые глаза. Лишь на секунду видит он эти глаза, клетчатую кепку-каскетку, клетчатый галстук между отворотами клетчатого пиджака, но тут трамвай со скрежетом притормаживает, тела смыкаются, и странный наблюдатель исчезает из виду. Некоторое время Феликс хмурится, пытаясь что-то сообразить, но тут между пассажирами вновь возникает просвет, и выясняется, что клетчатый наблюдатель мирно дремлет, сложив на животе руки. Средних лет мужчина, клетчатый пиджак, грязноватые белые брюки...
В зале дома культуры Феликс, расхаживая по краю сцены, разглагольствует перед читателями. – ...С раннего детства меня, например, пичкали классической музыкой. Вероятно, кто-то где-то когда-то сказал, что если человека ежечасно пичкать классической музыкой, то он к ней помаленьку привыкнет и смирится, и это будет прекрасно. И началось! Мы жаждали джаза, мы сходили по джазу с ума – нас душили симфониями. Мы обожали душещипательные романсы – на нас рушили скрипичные концерты. Мы рвались слушать бардов и менестрелей – нас травили ораториями. Если бы все эти титанические усилия по внедрению классической музыки имели бы КПД ну хотя бы как у паровоза, мы бы все сейчас были знатоками и ценителями. Ведь это же тысячи и тысячи часов классики по радио, тысячи и тысячи телепрограмм, миллионы пластинок! А что в результате? Сами видите, что в результате... Под одобрительный шум в зале Феликс отходит к столику и берет очередную записку. – «Были ли вы за границей?» Смех в зале. Возглас: «Как в анкете!» – Да, был. Один раз в Польше туристом. Два раза в Чехословакии с делегацией... Так. А что здесь? Гм... «Кто, по-вашему, больше боится смерти: смертные или бессмертные?» В зале шум. Феликс пожимает плечами и говорит: – Странный вопрос. Я на эту тему как-то не думал... Знаете, по-моему, о бессмертии думают главным образом молодые, а мы, старики, больше думаем о смерти! И тут он видит, как в середине зала воздвигается знакомая ему клетчатая фигура. – А что думают о смерти бессмертные? – пронзительным фальцетом осведомляется клетчатая фигура. Этим вопросом Феликс совершенно сбит с толку и несколько даже испуган. Он догадывается, что это неспроста, что есть в этой сцене некий непонятный ему подтекст, он чувствует, что лучше бы ему сейчас не отвечать, а если уж отвечать, то точно, в самое яблочко. Но как это сделать – он не знает, а поэтому бормочет, пытаясь то ли сострить, то ли отбрехаться: – Поживем, знаете ли, увидим... Я, между прочим, пока еще не бессмертный. Мне трудно, знаете ли, о таких вещах судить... Клетчатого уже не видно в зале, Феликс утирается платком и разворачивает следующую записку.
Покинув дом культуры, Феликс решает избавиться от проклятой авоськи с бутылками. Он пристраивается в небольшую очередь у ларька по приему стеклотары и стоит, глубоко задумавшись. Вдруг поднимается визг, крики, очередь бросается врассыпную. Феликс очумело вертит головой, силясь понять, что происходит. И видит он: с пригорка прямо на него, набирая скорость, зловеще-бесшумно катится гигантский МАЗ-самосвал с кузовом, полным строительного мусора. Судорожно подхватив авоську, Феликс отскакивает в сторону, а самосвал, промчавшись в двух шагах, с грохотом вламывается в ларек и останавливается. В кабине его никого нет. Вокруг кричат, ругаются, воздевают руки. – Где шофер? – В гастроном пошел, разгильдяй! – На тормоз! На тормоз надо ставить! – Да что же это такое, граждане хорошие? Куда милиция смотрит? – Где моя посуда? Посуда-то моя где? Он же мне всю посуду подавил! – Спасибо скажи, что сам жив остался... – Шофер! Эй, шофер! Куда завалился-то? – Убирай свою телегу! Выбравшийся из развалин ларька испуганный приемщик в грязном белом халате вскакивает на подножку и ожесточенно давит на сигнал.
Потряхивая головой, чтобы избавиться от пережитого потрясения, Феликс направляется на Курсы иностранных языков к знакомой своей, Наташе, до которой у него некое маленькое дельце. По коридорам Курсов он идет свободно, как у себя дома, не раздеваясь и нисколько не стесняясь своих бутылок, раскланиваясь то с уборщицей, то с унылым пожилым курсантом, то с молодыми парнями, устанавливающими стремянку в простенке. Он небрежно стучит в дверь с табличкой «Группа английского языка» и входит. В пустом кабинетике за одним из канцелярских столов сидит Наташа, Наталья Петровна, она поднимает на Феликса глаза, и Феликс останавливается. Он ошарашен, у него даже лицо меняется. Когда-то у него была интрижка с этой женщиной, а потом они мирно охладели друг к другу и давно не виделись. Он явился к ней по делу, но теперь, снова увидев эту женщину, обо всем забыл. Перед ним сидит строго одетая загадочная дама. Прекрасная Женщина с огромными сумрачными глазами ведьмы-чаровницы, с безукоризненно нежной кожей лица и лакомыми губами. Не спуская с нее глаз, Феликс осторожно ставит авоську на пол и, разведя руками, произносит: – Ну, мать, нет слов!.. Сколько же мы это не виделись? – Он хлопает себя ладонью по лбу. – Ну что за идиот! Где только были мои глаза? Ну что за кретин, в самом деле! Как я мог позволить? – Гуд ивнинг, май дарлинг, – довольно прохладно отзывается Наташа. – Ты только затем и явился, чтобы мне об этом сказать? Или заодно хотел еще сдать бутылки? – Говори! – страстно шепчет Феликс, падая на стул напротив нее. – Говори еще! Все, что тебе хочется! – Что это с тобой сегодня? – Не знаю. Меня чуть не задавили. Но главное – я увидел тебя! – А кого ты ожидал здесь увидеть? – Я ожидал увидеть Наташку, Наталью Петровну, а увидел фею! Или ведьму! Прекрасную ведьму! Русалку! – Златоуст, – говорит она ядовито, но с улыбкой. Ей приятно. – Сегодня ты, конечно, занята, – произносит он деловито. – А если нет? – Тогда я веду тебя в «Кавказский»! Я угощаю тебя сациви! Я угощаю тебя хачапури! Мы будем пить коньяк и «Твиши»! И Павел Павлович лично присмотрит за всем... – Ну, естественно, – говорит она. – Сдадим твои бутылки и гульнем. На все на три на двадцать. Но тут Феликс и сам вспоминает, что сегодняшний вечер у него занят. – Наточка, – говорит он. – А завтра? В «Поплавок», а? На плес, а? Как в старые добрые времена!.. – Сегодня в «Кавказский», завтра в «Поплавок»... А послезавтра? – Увы! – честно говорит он. – Сегодня не выйдет. Я забыл. – И завтра не выйдет, – говорит она. – И послезавтра. – Но почему? – Потому что ушел кораблик. Видишь парус? – Ты прекрасна, – произносит он, как бы не слушая, и пытается взять ее за руку. – Я был слепец. У тебя даже кожа светится. – Старый ты козел, – отзывается она почти ласково. – Отдай руку. – Но один-то поцелуй – можно? – воркует он, тщась дотянуться губами. – Бог подаст, – говорит она, вырывая руку. – Перестань кривляться. И вообще уходи. Сейчас ко мне придут. – Эхе-хе! – Он поднимается. – Не везет мне сегодня. Ну, а как ты вообще-то? – Да как все. И вообще, и в частности. – По-дурацки у нас с тобой получилось... – Наоборот! Самым прекрасным образом. – По-деловому, ты хочешь сказать? – Да. По-деловому. – А чего же тут прекрасного? – Без последствий. Это ведь самое главное, диар Феликс, чтобы не было никаких последствий. Ну, иди, иди, не отсвечивай здесь... Феликс понуро поворачивается к двери, берет авоську и вдруг спохватывается. – Слушай, Наталья, – говорит он. – У меня же к тебе огромная просьба! – Так бы и говорил с самого начала... – Да нет, клянусь, я как тебя увидел – все из головы вылетело... Это я только сейчас вспомнил. У тебя на курсе есть такой Сеня... собственно, не Сеня, а Семен Семенович Долгополов... – Ну, знаю я его. Лысый такой, из Гортранса... Очень тупой... – Святые слова! Лысый, тупой и из Гортранса. И еще у него гипертония и зять-пьяница. А ему нужна справка об окончании ваших Курсов. Вот так нужна, у него от этого командировка зависит за бугор... Сделай ему зачет, ради Христа. Ты его уже два раза проваливала... – Три. – Три? Ну, значит, он мне наврал. Постеснялся. Да пожалей ты его, что тебе стоит? Он говорит, что ты его невзлюбила... А за что? Он жалкий, невредный человечек... Ну, что ты так смотришь, как ледяная? Что он тебе сделал? – Он мне надоел, – произносит Наташа со странным выражением. – Так тем более! Сделай ему зачет, и пусть он идет себе на все четыре стороны... Отсвечивать здесь у тебя не будет... Пожалей! – Хорошо, я подумаю. – Ну, вот и прекрасно! Ты же добрая, я знаю... – Пусть он ко мне зайдет завтра в это время. – Не зайдет! – произносит Феликс, потрясая поднятым пальцем. – Не зайдет, а приползет на карачках! И будет держать в зубах плитку «Золотого якоря»! – Только не в зубах, пожалуйста, – очень серьезно возражает Наташа.
Вечереет. Феликс предпринимает еще одну попытку избавиться от посуды. Он встает в хвост очереди, голова которой уходит в недра какого-то подвала. Стоит некоторое время, закуривает, смотрит на часы. Затем, потоптавшись в нерешительности, обращается к соседу: – Слушай, друг, не возьмешь ли мои? По пять копеек отдам. Друг отзывается с мрачноватым юмором: – А мои по четыре не возьмешь? Феликс вздыхает и, постояв еще немного, покидает очередь. Он вступает в сквер, тянущийся вдоль неширокой улицы, движение на которой перекрыто из-за дорожных работ. Тихая, совершенно пустынная улица с разрытой мостовой, с кучами булыжников, громоздящихся на тротуаре. Феликс обнаруживает, что на правом его ботинке развязался шнурок. Он подходит к скамейке, опускает на землю авоську и ставит правую ногу на край скамейки, и вдруг авоська его словно бы взрывается – с лязгом и дребезгом. Невесть откуда брошенный булыжник угодил в нее и произвел в бутылках разрушения непоправимые. Брызги стеклянного лома усеяли все пространство вокруг ног Феликса. Феликс растерянно озирается. Сквер пуст. Улица пуста. Сгущаются вечерние тени. В куче стеклянного крошева над распластанной авоськой закопался испачканный глиной булыжник величиной с голову ребенка. – Странные у вас тут дела происходят... – произносит Феликс в пространство. Он делает движение, словно бы собираясь нагнуться за авоськой, затем пожимает плечами и уходит, засунув руки в карманы.
В шесть часов вечера Феликс входит в зал ресторана «Кавказский». Он останавливается у порога, оглядывая столики, и тут к нему величественно и плавно придвигается метрдотель Павел Павлович, рослый смуглый мужчина в черном фрачном костюме с гвоздикой в петлице. – Давненько не изволили заходить, Феликс Александрович! – рокочет он. – Дела? Заботы? Труды? – Труды, вашество, труды, – невнимательно отзывается Феликс. – А равномерно и заботы... А вот вас, Пал Палыч, как я наблюдаю, ничто не берет. Атлет, да и только... – Вашими молитвами, Феликс Александрович. А паче всего – беспощадная дрессировка организма. Ни в коем случае не распускать себя! Постоянно держать в узде!.. Впрочем, вы-то сюда приходите как раз для другого. Извольте вон туда, к окну. Анатолий Сократович вас уже ждут... – Спасибо, Пал Палыч, вижу... Кстати, мне бы с собой чего-нибудь. Домой к ужину. Ну, там, пару калачиков, ветчинки, а? Но в долг, Пал Палыч! А? – Сделаем. В этот момент за спиной Феликса раздается оглушительный лязг. Феликс подпрыгивает на метр и в ужасе оборачивается. Но это всего лишь молоденький официант Вася уронил поднос на металлический столик-каталку. – Шляпа, дырявые руки, – с величественным презрением произносит метрдотель Павел Павлович.
Главный редактор местного журнала Анатолий Сократович Романюк любит в меру выпить, вкусно закусить и угостить приятного, а тем более – нужного человека. – Ты, Феликс, пойми, что от тебя требуется прежде всего, – произносит он, выставив перед собой вилку с насаженным на нее ломтиком кеты. – Прежде всего требуется выразить ту мысль, что в наше время понятие смысла жизни неотделимо от высокого морально-нравственного потенциала... Феликс трясет головой. – Это, Анатолий Сократыч, я все уже понял... Я хочу тебе возразить, что нельзя все-таки так, с бухты-барахты... Надо все-таки заранее, хотя бы за неделю, а еще лучше – за две... Ты сам подумай: разве это мыслимо – за ночь статью написать? – Журнал должен быть оперативен! Как вы все этого не понимаете? Журнал по своей оперативности должен приближаться к газете, а не удаляться от нее! Ты знаешь, я тебя люблю. Ты сильно пишешь, Феликс, и я тебя люблю... Печатаю все, что ты пишешь... Но оперативности у тебя нет! – Так я же не газетчик! Я – писатель! – Вот именно! Писатель, а оперативности нет! Надо вырабатывать! Возьми, к примеру, этого... Курдюкова Котьку... Знаю, поэт посредственный и даже неважный... Но если ты ему скажешь: «Костя! Чтобы к вечеру было!» – будет. Он, понимаешь, как Чехов. За что я его и люблю. Тут же, понимаешь, на подоконнике пристроится – и готово: «По реке плывет топор с острова Колгуева...» Или еще что-нибудь в этом роде. Феликс спохватывается. – Ч-черт! Надо же позвонить, узнать, как он там... – Где? – кричит редактор уже вслед убегающему Феликсу.
В вестибюле ресторана Феликс звонит на квартиру Курдюкова. – Зоечка, это я, Феликс... Ну, как там Костя вообще? – Ой, как хорошо, что вы позвонили, Феликс! Я только что от него! Только-только вошла, пальто еще не снимала... Вы знаете, он очень просит, чтобы вы к нему зашли... – Обязательно. А как же... А как он вообще? – Да все обошлось, слава богу. Но он очень просит, чтоб вы пришли. Только об этом и говорит. – Да? Н-ну... Завтра, наверное. Ближе к вечеру... – Нет! Он просит, чтобы обязательно сегодня! Он мне просто приказал: позвонит Феликс Александрович – скажи ему, чтобы пришел обязательно, сегодня же. – Сегодня? Хм... – мямлит Феликс. – Сегодня-то я никак... Тут у меня Анатолий Сократыч сидит. Зоя не слушает его. – А если не позвонит, говорит, – продолжает она, – то найди его, говорит, где хочешь. Хоть весь город объезди. Что-то у него к вам очень важное, Феликс... И важное, и срочное... – Ах, черт, как неудобно получается!.. – Феликс, миленький, вы поймите, он сам не свой... Ну забегите вы к нему сегодня, ну хоть на десять минут! – Ну ладно, ну хорошо, что ж делать... Феликс вешает трубку. Беззвучно и энергично шевелит губами. На физиономии его явственно изображен бунт.
Когда Феликс входит в палату, Курдюков сидит на койке и с отвращением поедает манную кашу из жестяной тарелки. Он весь в больничном, но выглядит в общем неплохо. За умирающего его принять невозможно. Палата на шесть коек, у окна лежит кто-то с капельницей, а больше никого нет – все ушли на телевизор смотреть футбол. Увидевши Феликса, Курдюков живо вскакивает и так яро к нему бросается, что Феликс даже шарахается от неожиданности. Курдюков хватает его за руку и принимается пожимать и трясти, трясти и пожимать, и при этом говорит как заведенный, почему-то все время оглядываясь на тело с капельницей и не давая Феликсу сказать ни слова: – Старик! Ты себе представить не можешь, что тут со мной было! Это же десять кругов ада, клянусь тебе всем святым! Сначала меня рвало, потом меня судороги били, потом меня несло, да как! Стены содрогались! Тридцать три струи, не считая мелких брызг! Страшное дело! Но и они тоже времени не теряли... Представляешь, понабежали со всех сторон, с трубками, с наконечниками, с клистирами наперевес, все в белом, жуткое зрелище, шестеро меня держат, шестеро промывают, шестеро в очереди стоят... Он все оглядывается и, наступая на ноги, теснит Феликса к дверям. – Да что ты все пихаешься? – спрашивает Феликс, уже оказавшись в коридоре. – Давай, старик, пойдем присядем... Вон там у них скамеечка под пальмой... Они усаживаются на скамеечку под пальмой. В коридоре пусто и тихо, только вдали дежурная сестра позвякивает пузырьками да доносятся приглушенные взрывы эмоций футбольных болельщиков. – Потом, представляешь, кислород! – с энтузиазмом продолжает Курдюков. – Сюда – трубку, в нос – две... Ну, думаю, все, врезаю дуба. Однако нет! Проходит час, проходит другой, прихожу в себя, и ничего! – Не понадобилось, значит, – благодушно вставляет Феликс. – Что именно? – быстро спрашивает Курдюков. – Ну, этот твой... мафусаил... мафуссалин... Зря, значит, я хлопотал. – Что ты! Они мне, понимаешь, сразу клизму, промывание желудка под давлением, представляешь? Такой кислород засадили, вредители! Только тут я понял, какая это страшная была пытка, когда в тебя сзади воду накачивают... У меня, понимаешь, глаза на лоб, я им говорю: ребята, срочно зовите окулиста... И тут Курдюков вдруг обрывает себя и спрашивает шепотом: – Ты что так смотришь? – Как? – удивляется Феликс. – Как я смотрю? – Да нет, никак... – уклоняется Курдюков. – Я вижу, отец, ты малость вдетый нынче, а? Поддал, старик, а? – Не без того, – соглашается Феликс и, не удержавшись, добавляет: – Если бы не ты, я и сейчас бы еще продолжал с удовольствием. – Ничего! – с легкомысленным жестом объявляет Курдюков. – Завтра или послезавтра они меня отсюда выкинут, и мы с тобой тогда продолжим. Без балды. Я тебе знаешь какого коньячку выставлю? Называется «Ахтамар», прямо с Кавказа... Это, знаешь, у них такая легенда была: любила девушка одного, а родители были против, а сама она жила в замке на острове... – Слушай, Костя, – прерывает его Феликс стеснительно, – знаю я эту легенду. Ты меня извини, ради бога, но мне сегодня еще работать всю ночь. Сократыч статью заказал... – Да-да, конечно! – вскрикивает Курдюков. – Конечно, иди! Что тут тебе со мной? Навестил, и спасибо тебе большое. Он встает. И Феликс тоже встает – в растерянности и недоумении. Некоторое время они молчат, глядя друг другу в глаза. Потом Курдюков вдруг снова спрашивает полушепотом: – Ты чего? – Да ничего. Пойду сейчас. – Конечно, иди... Спасибо тебе... Не забуду, вот увидишь... – Ты мне больше ничего не хочешь сказать? – спрашивает Феликс. – Насчет чего? – произносит Курдюков совсем уже тихо. – А я не знаю – насчет чего! – взрывается Феликс. – Я не знаю, зачем ты меня выдернул из-за стола... Ни поесть толком не дал, ни выпить... Сократыч обиделся... Мне говорят: срочное дело, необходимо сегодня же, немедленно. Какое дело? Что тебе необходимо? – Кто говорил, что срочное дело? – Жена твоя говорила! Зоя! – Да нет! – объявляет Курдюков и снова делает легкомысленный жест. – Да чепуха это все, перепутала она! Совсем не про тебя речь шла, и было это не так уж срочно... А она говорила – сегодня? Вот дурища! Нет, Феликс, она просто не поняла с перепугу. Ну, напугалась же баба... Феликс машет рукой. – Ладно. Господь с вами обоими. Не поняла, так не поняла. Выздоровел – и слава богу. А я тогда пошел домой. Феликс направляется к выходу, а Курдюков семенит рядом, забегая то справа, то слева, то хватая его за локоть, то сжимая его плечо. – Ну, ты ж не обиделся, я надеюсь... – бормочет он. – Ну, дура же, молодая еще... Не понимает ничего... Ты, главное, знай: я тебе благодарен так, что если ты меня попросишь... о чем бы ты меня ни попросил... Ты знаешь, какого я страху здесь натерпелся? Не дай бог тебе отравиться, Снегирев, ей-богу... Ну, ты не сердишься, да? Ну скажи, не сердишься? А на пустой лестничной площадке, рядом с телефоном-автоматом, происходит нечто совсем уж несообразное. Курдюков вдруг обрывает свою бессвязицу, судорожно вцепляется Феликсу в грудь, прижимает его к стене и, брызгаясь, шипит ему в лицо: – Ты запомни, Снегирев! Не было ничего, понял? Забудь! – Постой, да ты что? – бормочет Феликс, пытаясь отодрать от себя его руки. – Не было ничего! – шипит Курдюков. – Не было! Хорошенько запомни! Не было! – Да пошел ты к черту! Обалдел, что ли? – гаркает Феликс в полный голос. Ему удается наконец оторвать от себя Курдюкова, и, с трудом удерживая его на расстоянии, он произносит: – Да опомнись ты, чучело гороховое! Что это тебя разбирает? Курдюков трясется, брызгается и все повторяет: – Не было ничего, понял? Не было!.. Ничего не было! Потом он обмякает и принимается плаксиво объяснять: – Накладка у меня получилась, Снегирев... Накладка у меня вышла! Институт же секретный, номерной... Не положено мне ничего про него знать... А тебе уж и подавно не положено! Не нашего это ума дело, Феликс! Я вот тебе ляпнул, а они уже пришли и замечание мне сделали... Прямо хоть из больницы не выходи! Феликс отпускает его. Курдюков, морщась, принимается растирать свои покрасневшие запястья и все бубнит со слезой одно и то же: – Накладка это... А мне уже влетело... И еще влетит, если ты болтать будешь... Загубишь ты меня своей болтовней! Секретный же! Не положено нам с тобой знать! – Ну хорошо, хорошо, – говорит Феликс, с трудом сохраняя спокойствие. – Секретный. Хорошо. Ну чего ты дергаешься? Сам посуди, ну какое мне до всего этого дело? Не положено, так не положено... Надо, чтобы я забыл, – считай, что я все забыл... Не было и не было, что я – спорю? Что за манера, в самом деле? Без всякой жалости он отодвигает Курдюкова с дороги и принимается спускаться по лестнице с наивозможной для себя поспешностью. Он уже в самом низу, когда Курдюков, перегнувшись через перила, шипит ему вслед на всю больницу: – О себе подумай, Снегирев! Серьезно тебе говорю! О себе! Феликс только сплевывает в сторону.
Дома, в тесноватой своей прихожей, Феликс зажигает свет, кладет на столик объемистый сверток (с едой от Павла Павловича), устало стягивает с головы берет, а затем снимает плащ и принимается аккуратно напяливать его на деревянные плечики. И тут он обнаруживает нечто ужасное. В том месте, которое приходится как раз на левую почку, плащ проткнут длинным шилом с деревянной рукояткой. Несколько секунд Феликс оцепенело смотрит на эту округлую деревянную рукоятку, затем осторожно вешает плечики с плащом на вешалку и, придерживая полу, двумя пальцами извлекает шило. Электрический блик жутко играет на тонком стальном жале. И Феликс отчетливо вспоминает: искаженную физиономию Курдюкова и его шипящий вопль: «О себе подумай, Снегирев! Серьезно тебе говорю! О себе!»; стеклянный лязг и дребезг и булыжник в куче битого стекла на авоське; испуганные крики и вопли разбегающейся очереди и тупую страшную морду МАЗа, накатывающуюся на него, как судьба... и вновь бормотанье Курдюкова: «Не дай бог тебе отравиться, Снегирев...» Слишком много для одного дня. Феликс, не выпуская шила из пальцев, накидывает на дверь цепочку и произносит вслух: – Вот, значит, какие дела...
Глубокая ночь, дождь. В свете уличных фонарей блестит мокрая листва, блестит брусчатка мостовой, блестят плиты тротуара. Дома погружены во тьму, лишь кое-где горят одинокие прямоугольники окон. У подъезда десятиэтажного дома останавливается легковой автомобиль. Гаснут фары. Из машины выбираются под дождь четыре неясные фигуры, останавливаются и задирают головы.
Ж е н с к и й г о л о с. Вон три окна светятся. Спальня, кабинет, кухня... Седьмой этаж. М у ж с к о й г о л о с. Странно... Почему у него везде свет? Может, у него гости? Д р у г о й м у ж с к о й г о л о с. Никак нет. Один он. Никого у него нет.
Кабинет Феликса залит светом. Горит настольная лампа, горит торшер над журнальным столиком с телефоном, горит трехрожковая люстра, горят оба бра над полосатым диваном напротив книжной стенки. Феликс в застиранной роскошной пижаме работает за письменным столом. Пишущая машинка по ночному времени отодвинута в сторону, Феликс пишет от руки. Заполненная окурками пепельница придавливает стопу исписанных страниц. На углу стола – пустая турка с перекипевшим через край кофе и испачканная кофейная чашечка. Страшное шило лежит тут же, в деревянном ящичке с каталожными карточками. Звонок в дверь. Феликс смотрит на часы. Пять минут третьего ночи. Феликс глотает всухую. Ему страшно. Он поднимается, идет в прихожую и останавливается перед входной дверью. – Кто там? – произносит он сипло. – Открой, Феликс, это я, – отзывается негромко женский голос. – Наташенька? – с удивлением и радостью говорит Феликс. Он торопливо снимает цепочку и распахивает дверь. Но на пороге вовсе не Наташа. Давешний мужчина в клетчатом. Под пристальным взглядом его светлых выпуклых глаз Феликс отступает на шаг. Все происходит очень быстро. Клетчатый неуловимым движением оттесняет его, проникает в прихожую, крепко ухватывает его за запястья и сразу же прижимает спиной к двери в туалет. А с лестничной площадки быстро и бесшумно входят в квартиру один за другим: огромный, плечистый Иван Давыдович в черном плаще до щиколоток, в руке – маленький саквояж, войдя, он только коротко взглядывает на Феликса и проходит в кабинет; стройная и очаровательная Наталья Петровна с сумочкой на длинном ремешке через плечо, нежно улыбается Феликсу и картинно делает ручкой, как бы говоря: «А вот и я!»; и высокий смуглый Павел Павлович в распахнутом сером пальто, под которым виден все тот же черный фрачный костюм с той же гвоздикой в петлице, с длинным зонтиком-тростью под мышкой, войдя, он приподнимает шляпу и, сверкнув лысиной, приветствует Феликса легким поклоном.
Ф е л и к с (обалдело). Пал Палыч? П а в е л П а в л о в и ч. Он самый, душа моя, он самый... Ф е л и к с. Что случилось?
Павел Павлович ответить не успевает. Из кабинета раздается властный голос: – Давайте его сюда! Клетчатый ведет Феликса в кабинет. Иван Давыдович сидит в кресле у стола. Плащ его небрежно брошен на диван, саквояж поставлен у ноги.
Ф е л и к с. Что, собственно, происходит? В чем дело? И в а н Д а в ы д о в и ч. Тихо, прошу вас. К л е т ч а т ы й. Куда его? И в а н Д а в ы д о в и ч. Вот сюда... Сядьте, пожалуйста, на свое место, Феликс Александрович. Ф е л и к с. Я сяду, но я хотел бы все-таки знать, что происходит... И в а н Д а в ы д о в и ч. Спрашивать буду я. А вы садитесь и отвечайте на вопросы. Ф е л и к с. Какие вопросы? Ночь на дворе...
Слегка подталкиваемый Клетчатым, он обходит стол и садится на свое место напротив Ивана Давыдовича. Он растерянно озирается, и по лицу его видно, что ему очень и очень страшно. Хотя, казалось бы, чего бояться? Наташа мирно сидит на диване и внимательно изучает свое отражение в зеркальце, извлеченном из сумки. Павел Павлович обстоятельно устраивается в кресле под торшером и ободряюще кивает оттуда Феликсу. Вот только Клетчатый... Он остался в дверях – скрестивши ноги, прислонился к косяку и раскуривает сигарету. Руки его в черных кожаных перчатках.
И в а н Д а в ы д о в и ч. Сегодня в половине третьего вы были у меня в институте. Куда вы отправились потом? Ф е л и к с. А кто вы, собственно, такие? Почему я должен... И в а н Д а в ы д о в и ч. Потому что. Вы обратили внимание, что сегодня вы трижды только случайно остались в живых?.. Ну, вот хотя бы это... (Он берет двумя пальцами страшное шило за кончик лезвия и покачивает перед глазами Феликса.) Два сантиметра правее – и конец! Поэтому я буду спрашивать, а вы будете отвечать на мои вопросы. Добровольно и абсолютно честно. Договорились?
Феликс молчит. Он сломлен.
И в а н Д а в ы д о в и ч. Итак, куда вы отправились от меня? Только не лгать! Ф е л и к с. В дом культуры. Железнодорожников. И в а н Д а в ы д о в и ч. Зачем? Ф е л и к с. Я там выступал. Перед читателями... Вот гражданин может подтвердить. Он меня видел. К л е т ч а т ы й. Правильно. Не врет. И в а н Д а в ы д о в и ч. Кто была та полная женщина в очках? Ф е л и к с. Какая женщина?.. А, в очках. Это Марья Леонидовна! Она завбиблиотекой. И в а н Д а в ы д о в и ч. Что вы ей рассказывали? Ф е л и к с. Я? Ей? И в а н Д а в ы д о в и ч. Вы. Ей. К л е т ч а т ы й. Рассказывал, рассказывал! Минут двадцать у нее в кабинете просидел... Ф е л и к с. Что значит – просидел? Ну, просидел... Она мне путевку заверяла... Договаривались о следующем выступлении... Она меня просила в район выехать... И ничего я ей не рассказывал! Что за подозрения? Скорее уж это она мне рассказывала... И в а н Д а в ы д о в и ч. Итак, она заверила вам путевку. Куда вы отправились дальше? Ф е л и к с. На Курсы! Наташа, скажи ему! Н а т а ш а. Феликс Александрович, ты не волнуйся. Ты просто рассказывай все, как было, и ничего тебе не будет. Ф е л и к с. Да я и так рассказываю все, как было... И в а н Д а в ы д о в и ч. Кого еще из знакомых вы встретили на Курсах? Ф е л и к с. Ну, кого... (Он очень старается.) Этого... ну, Валентина, инженера, из филиала, не знаю, как его фамилия... Потом этого, как его... Ну, такой мордастенький... И в а н Д а в ы д о в и ч. И о чем вы с ними говорили? Ф е л и к с. Ни о чем я с ними не говорил. Я сразу прошел к Наташе... к Наталье Петровне... И в а н Д а в ы д о в и ч. Потом вы оказались в ресторане. Зачем? Ф е л и к с. Как это – зачем? Поесть! Я же целый день не ел... Между прочим, из-за этого вашего Курдюкова! И в а н Д а в ы д о в и ч. А почему вас там дожидался Романюк? Ф е л и к с. Он заказал мне статью. О морально-нравственном потенциале. О смысле жизни современного человека... Вот я ее пишу, вот она! И в а н Д а в ы д о в и ч. А зачем вам понадобилось рассказывать ему про Курдюкова? Ф е л и к с. Про Курдюкова? И в а н Д а в ы д о в и ч. Да! Про Курдюкова! Ф е л и к с. Ничего я ему не рассказывал про Курдюкова! С какой стати? П а в е л П а в л о в и ч. Ну как же не рассказывали? Только и слышно было: Курдюков, Курдюков...
Произнеся эти слова, Павел Павлович поднимается, секунду смотрит на телефон, выдергивает телефонный шнур из розетки и снимает аппарат со столика на пол. Затем произносит: «Эхе-хе...» и направляется к двери на кухню.
И в а н Д а в ы д о в и ч (раздраженно). Павел... э... Павлович! Я не понимаю, неужели вы не можете десять минут подождать? П а в е л П а в л о в и ч (приостановившись на мгновение в дверях). А зачем, собственно, ждать? (Издевательским тоном.) Курдюков, Курдюков...
Он скрывается на кухне, и оттуда сейчас же доносится лязг посуды.
Ф е л и к с (нервно кричит ему вслед). Не было этого! Может быть, и упоминали мы его один или два раза... С какой стати? (Ивану Давыдовичу.) А если бы даже я ему и рассказал? Что тут такого?.. И в а н Д а в ы д о в и ч. Значит, вы все-таки рассказали ему про Курдюкова. Ф е л и к с. Да не рассказывал я! Скорее это уж Романюк мне о нем рассказывал! Как Курдюков свои стишки пишет, и все такое... А я про Курдюкова только и сказал, что он отравился и я еду к нему в больницу... И все. И больше ничего. И в а н Д а в ы д о в и ч. А о том, что Курдюков послал вас ко мне? Ф е л и к с. Да господи! Да конечно – нет! Да ни единого слова!
Наступает внезапная тишина. Феликс обнаруживает, что все с жадным вниманием смотрят на него. В тишине отчетливо слышно, как Павел Павлович на кухне чем-то побрякивает и напевает неопределенный мотивчик.
И в а н Д а в ы д о в и ч (вкрадчиво). То есть вы уже тогда поняли, о чем можно говорить, а о чем нельзя?
Феликс молчит. Глаза его растерянно бегают.
И в а н Д а в ы д о в и ч. Феликс Александрович, будет лучше всего, если вы сами, без нашего давления, добровольно и честно расскажете нам: с кем вы сегодня говорили о Курдюкове, что именно говорили и зачем вы это делали. Я очень советую вам быть откровенным. Ф е л и к с. Да господи! Да разве я скрываю? С кем я говорил о Курдюкове? Пожалуйста. С кем я говорил... Да ни с кем я не говорил! Только с одним Романюком и говорил... Да, конечно! С женой Курдюкова говорил, с Зоей!.. Она мне сказала, чтобы я поехал к нему в больницу, и я поехал... И все. Все! Больше ни с кем!
На кухне снова слышится звон посуды, и в кабинете появляется Павел Павлович. На нем кухонный фартук, в одной руке он держит шипящую сковородку, в другой – деревянную подставку для нее.
П а в е л П а в л о в и ч. Прошу прощения. Не обращайте внимания... Я у вас, Феликс Александрович, давешнюю ветчину там слегка... Вы уж не обессудьте... Ф е л и к с (растерянно). Да ради бога... Конечно! И в а н Д а в ы д о в и ч (раздраженно). Давайте не будем отвлекаться! Продолжайте, Феликс Александрович!
Но Феликс не может продолжать. Он с испугом и изумлением следит за действиями Павла Павловича. Павел Павлович ставит сковородку на журнальный столик и, нависнувши над нею своим большим благородным носом, извлекает из нагрудного кармана фрака черный плоский футляр. Открыв этот футляр, он некоторое время водит над ним указательным пальцем, произносит как бы в нерешительности: «Гм!» и вынимает из футляра тонкую серебристую трубочку.
К л е т ч а т ы й (бормочет). Смотреть страшно...
Павел Павлович аккуратно отвинчивает колпачок и принимается капать из трубочки в яичницу – на каждый желток по капле.
Н а т а ш а. Какой странный запах... Вы уверены, что это съедобно? П а в е л П а в л о в и ч. Это, душа моя, «ухэ-тхо»... в буквальном переводе – «желчь водяного». Этому составу, деточка, восемь веков... И в а н Д а в ы д о в и ч (стучит пальцем по столешнице). Довольно, довольно! Феликс Александрович, продолжайте! О чем вы говорили с Романюком? Ф е л и к с (с трудом отрываясь от созерцания Павла Павловича). О чем я говорил с Романюком?.. Он попросил меня написать статью. Срочно. Сегодня же... Вот эту. (Он касается пальцем стопки бумаг под пепельницей.) И в а н Д а в ы д о в и ч. А о чем вы договорились с Курдюковым в больнице? Ф е л и к с. С Курдюковым? В больнице? Н-ну... Ни о чем определенном мы не договаривались... Он обещал поставить бутылку коньяку, и мы договорились, что ее разопьем... Его ведь не сегодня-завтра выпишут... И в а н Д а в ы д о в и ч. И все? Ф е л и к с. И все... И в а н Д а в ы д о в и ч. И ради этого вы поперли на ночь глядя через весь город в больницу? Ф е л и к с. Н-ну... Это же почти рядом... И потом, просил же человек... И в а н Д а в ы д о в и ч. Курдюков – ваш хороший друг? Ф е л и к с. Что вы! Мы просто соседи! Раскланиваемся... Я ему – отвертку, он мне пылесос... И в а н Д а в ы д о в и ч. Понятно. Посмотрите, что у вас получается. Не слишком близкий ваш приятель, чувствующий себя уже вполне неплохо, вызывает вас поздно вечером к себе в больницу только для того, чтобы пообещать распить с вами бутылку коньяка. Я правильно резюмировал ваши показания? Ф е л и к с. Д-да... И в а н Д а в ы д о в и ч. Вы бросили на середине деловой разговор с вашим работодателем, вы забыли, что вам предстоит всю ночь корпеть над работой, – и ради чего? Ф е л и к с. Откуда я знал? Откуда мне было знать? Ведь мне его жена баки забила: срочно, немедленно! И в а н Д а в ы д о в и ч. О чем вы сговорились с Курдюковым в больнице? Ф е л и к с. Ей-богу, ни о чем!
Иван Давыдович поворачивается и смотрит на Клетчатого. Тот, раскуривая очередную сигарету, отрицательно мотает головой.
И в а н Д а в ы д о в и ч (Клетчатому). Вы полагаете?.. К л е т ч а т ы й. Врет. И в а н Д а в ы д о в и ч (с упреком). Феликс Александрович, ведь я же предупреждал вас... Ф е л и к с (трусливо). В чем, собственно, дело? К л е т ч а т ы й. Брешет он, сучий потрох! Не знаю, о чем они там сговорились, но на лестнице было у них крупное объяснение! Он же по ступенькам ссыпался – весь красный был, как помидор! Ф е л и к с. Так я и не скрываю! Я и был злой! Я бы ему врезал, если бы не больница! К л е т ч а т ы й (уверенно). Врет. Врет. Я же вижу: где правда, там правда, а здесь – врет!.. П а в е л П а в л о в и ч (негромко). А всего-то и надо было вам, Ротмистр, сделать два шага вверх по лестнице, вот вы бы все и услышали, а мы бы здесь не гадали... К л е т ч а т ы й (смиренно). Виноват, ваше сиятельство. Однако были некоторые причины... А пусть-ка этот аферист объяснит нам, господа, что означали слова: «О себе подумай, Снегирев! О себе!» Эти слова я слышал прекрасно и никак не могу взять в толк, к чему бы они! И в а н Д а в ы д о в и ч. О чем вы сговорились с Курдюковым? Ф е л и к с. Да ни о чем мы не сговаривались! Ей-богу же – ни о чем! И в а н Д а в ы д о в и ч. О чем вы сговорились с Курдюковым? Ф е л и к с. Господи! Да что вы ко мне пристали, в самом деле? Нечего мне вам добавить! И в а н Д а в ы д о в и ч. О чем вы сговорились с Курдюковым? Ф е л и к с. Наташа! Да кто это такие? Что им нужно от меня? Скажи им, чтобы отстали!
Клетчатый коротко и очень страшно гогочет.
И в а н Д а в ы д о в и ч. Слушайте меня внимательно. Мы отсюда не уйдем до тех пор, пока не выясним все, что нас интересует. И вы нам обязательно расскажете все, что нас интересует. Вопрос только – какой ценой. Церемониться мы не будем. Мы не умеем церемониться. И должно быть тихо, даже если вам будет очень больно.
Он берет саквояж, ставит его на стол, раскрывает, извлекает из него автоклавчик и, звякая металлом и стеклом, принимается снаряжать шприц для инъекций. Феликс наблюдает эти манипуляции, покрываясь испариной.
И в а н Д а в ы д о в и ч. Разумеется, мы бы предпочли получить от вас информацию быстро, без хлопот и в чистом виде, без всяких примесей. Я думаю, это и в ваших интересах тоже...
Тем временем Клетчатый скользящим шагом пересекает комнату и намеревается встать у Феликса за спиной. Феликс в панике отодвигается вместе со стулом и оказывается загнанным между столом и книжной стенкой.
К л е т ч а т ы й (шепотом). Тихо! Сидеть! Ф е л и к с (с отчаянием). С-слушайте! Какого дьявола? Наташа! Пал Палыч!
Наташа сидит на диване, уютно поджавши под себя ноги. Она подпиливает пилкой ноготки.
Н а т а ш а (ласково-наставительно). Феликс, милый, надо рассказать. Надо все рассказать, все до последнего. П а в е л П а в л о в и ч. Да уж, Феликс Александрович, вы уж пожалуйста! Зачем вам лишние неприятности? Ф е л и к с (он сломлен, дрожащим голосом). Да-да, не надо... И в а н Д а в ы д о в и ч. Отвечать будете? Ф е л и к с. Да-да, обязательно... И в а н Д а в ы д о в и ч. О чем вы сговорились с Курдюковым?
Феликс не успевает ответить (да он и не знает, что отвечать). Дверь в комнату распахивается, и на пороге объявляется Курдюков. Он в мокром пальто не по росту, из-под пальто виднеются больничные подштанники, на ногах – мокрые растоптанные тапки. – Ага! – с фальшивым торжеством произносит он и вытирает рот тыльной стороной кулака, в котором зажата огромная стамеска. – Взяли гада? Хорошо! Молодцы. Но как же это вы без меня? Непорядок, непорядок, не по уставу! Апеллирую к вам, Магистр! Не по уставу... Итак? Кто ему рассказал про Эликсир? И в а н Д а в ы д о в и ч (вскакивая). Он знает про Эликсир? Н а т а ш а (тоже подскочив). То есть как это? П а в е л П а в л о в и ч. Что-что-что? К л е т ч а т ы й. А что я вам говорил? К у р д ю к о в. Хе! Он не только про Эликсир знает! Он мне намекал, что ему и про Источник известно! Он мне уже и Крапивкин Яр называл, сукин сын!
Все взоры устремляются на Феликса.
Ф е л и к с (бормочет, запинаясь). Ты что, Курдюков? Какой еще Эликсир? Крапивкин Яр – знаю, а Эликсир... Какой Эликсир? К у р д ю к о в (наклоняется к нему, уперев руки в боки). А Крапивкин Яр, значит, знаешь? Ф е л и к с. З-знаю... Кто ж его не знает? К у р д ю к о в. Ладно, ладно! «Кто ж его не знает...» А что ты мне про Крапивкин Яр намекал давеча? Помнишь? Ф е л и к с. Про Крапивкин Яр? Когда? К у р д ю к о в. А сегодня! В больнице! «Вот поправишься, Костенька, и пойдем мы с тобой прогуляться в Крапивкин Яр...» У меня глаза на лоб полезли! Откуда? Как узнал? «Придется тебе, Костенька, одну ложечку для меня уделить...» Ложечку ему! А? Ф е л и к с (орет в отчаянии). Какую ложечку? Да ты что – опять консервами обожрался? Что ты мелешь?
Слышны глухие удары в потолок. Все притихают.
Ф е л и к с (понизив голос). Послушайте, ночь на дворе, мы же людям спать не даем! Что вы у меня здесь сумасшедший дом устроили! К у р д ю к о в (сдавленным шепотом). Ты что – про Крапивкин Яр мне не говорил? Посмей только отпираться, скотина! И про ложечку Эликсира не говорил? Ф е л и к с. Да ничего подобного я тебе не говорил! Дурак ты консервный, заблеванный! К у р д ю к о в. Не отпирайся! И про Крапивкин Яр говорил, и про Эликсир говорил, и про Источник намекал... Я тебе предупреждал давеча? «Молчи! Ни единого слова! Никому!» Говорил я тебе это или нет? Ф е л и к с. Ну, говорил! Так ведь ты про что говорил? Ты же ведь... К у р д ю к о в. А! Признаешь! Правильно! А раз признаешь, то не надо запираться! Не надо! Честно признайся: кто тебе рассказал? Наташка? В постельке небось рассказала? Расслабилась?
Он оглядывается на Наташу и, тихонько взвизгнув, шарахается, заслоняясь кулаком со стамеской: Наташа надвигается на него неслышным кошачьим шагом, слегка пригнувшись, опустив вдоль тела руки с хищно шевелящимися пальцами.
Н а т а ш а (яростно шипит). Ах ты, паскуда противная, душа гадкая, грязная, ты что же это хочешь сказать, пасть твоя черная, немытая? К у р д ю к о в (визжит). Я ничего не хочу сказать! Магистр, это гипотеза! Защитите меня!
Наташа вдруг останавливается, поворачивается к Ивану Давыдовичу и спокойно произносит: «Ну, все ясно. Этот патологический трус сам же все и разболтал. Обожрался тухлятиной, вообразил, что подыхает, и со страху все разболтал первому же встречному...»
К у р д ю к о в. Вранье! Первый был доктор из «Скорой помощи»! А потом санитары! А уж только потом... Н а т а ш а. И ты им всем разболтал, гнида? К у р д ю к о в. Никому! Ничего! Он уже и так все знал!
Клетчатый, оставивши Феликса, начинает бочком-бочком придвигаться к Курдюкову. Заметив это, Курдюков валится на колени перед Иваном Давыдовичем.
К у р д ю к о в. Магистр! Не велите ему! Я все расскажу! Я только попросил его съездить к вам... Назвал вас, виноват... Страшно мне было очень... Но он и так уже все знал! Улыбнулся этак зловеще и говорит: «Как же, знаю, знаю Магистра»... Ф е л и к с (потрясая кулаками). Что ты несешь? Опомнись! К у р д ю к о в. «Поеду, говорит, так и быть, поеду, но вечерком мы еще с тобой поговорим!» Я хотел броситься, я хотел предупредить, но меня промывали, я лежал пластом... Ф е л и к с. Товарищи, он все врет. Я не понимаю, чего ему от меня надо, но он все врет... К у р д ю к о в. А вечером он уже больше не скрывался! Поймите меня правильно, я волнуюсь, я не могу сейчас припомнить его речей в точности, но про все он мне рассказал специально, чтобы доказать свою осведомленность... Ф е л и к с. Врет. К у р д ю к о в. Чтобы доказать свою осведомленность и склонить меня к измене! Он сказал, что нас пятеро, что мы бессмертные... Ф е л и к с (монотонно). Врет. К у р д ю к о в (заунывно, словно бы пародируя). «В Крапивкином Яре за шестью каменными столбами под белой звездой укрыта пещера, и в той пещере Эликсира Источник, точащий капли бессмертия в каменный стакан...» Ф е л и к с. Впервые эту чепуху слышу. Он же просто с ума сошел. К у р д ю к о в (воздевши палец). «Лишь пять ложек Эликсира набирается за три года, и пятерых они делают бессмертными...» Ф е л и к с. Он же из больницы сбежал, вы же видите... К у р д ю к о в (обычным голосом). Он вас назвал, Магистр. И Наташечку. И вас, Князь. «А пятого, говорит, я до сих пор не знаю...»
Все смотрят на Феликса.
Ф е л и к с (пытаясь держать себя в руках). Для меня все это – сплошная галиматья. Горячечный бред. Ничего этого я не знаю, не понимаю и говорить об этом просто не мог.
Все молчат. И в этой тишине раздается вдруг пронзительный звонок в дверь. Все застывают.
И в а н Д а в ы д о в и ч (глядя на Феликса). М-м? Ф е л и к с (несколько ободрившись). Я думаю, это сосед сверху. Я думаю, вы слишком тут все орете.
Снова звонок в дверь – длинный, яростный.
И в а н Д а в ы д о в и ч. Идите и извинитесь. Никаких лишних слов. И вообще ничего лишнего. Ротмистр, проследите.
Сопровождаемый Клетчатым, Феликс выходит в прихожую. Наружная дверь, оказывается, наполовину раскрыта, и на пороге маячит фигура в полосатой пижаме. – Я, гражданин Снегирев, жаловаться на вас буду, – объявляет фигура. – Полчетвертого ночи!
Ф е л и к с. Сергей Сергеич, простите, ради бога. Мы тут увлеклись, переборщили... Правильно, Ротмистров? К л е т ч а т ы й. Переборщили. Правильно. Больше не повторится, я сам прослежу. Ф е л и к с. Простите, Христа ради, Сергей Сергеич! С меня полбанки, а? С е р г е й С е р г е и ч (плачуще). Мне, Феликс Александрович, вставать в шесть утра! А вы тут, понимаете, произведения свои читать затеяли, да еще не просто читать, а на три голоса, с выражением... Сил же никаких нет! Ф е л и к с. А что, все слышно? С е р г е й С е р г е и ч. Да вот как над ухом прямо! Ф е л и к с (Клетчатому). Вот видите? Говорил же я вам, что пора уже расходиться... К л е т ч а т ы й. Все! Все. Сергей Сергеич, все. С него полбанки и с меня тоже полбанки. И полная тишина. Как в могиле. Правильно я говорю, Феликс Александрович? Как в могиле!
– И-иэх! – произносит Сергей Сергеич горестно и удаляется, шлепая тапочками. Феликс пытается запереть дверь, но тут выясняется, что замок сломан.
Ф е л и к с (с отчаянием). Ну что за сволочь! Вы поглядите только, он же мне замок сломал! К л е т ч а т ы й (с жадным любопытством). Кто? Сергей Сергеич? А зачем? Ф е л и к с. Да при чем здесь Сергей Сергеич? Курдюков этот ваш, псих полоумный! И что вы все свалились на мою голову? Забирайте вы его и уходите к чертовой матери, не то я милицию вызову!.. К л е т ч а т ы й. Тихо! Эт-то еще что такое? А ну-ка, проходите и – тихо!
Едва Феликс вступает в кабинет, как на него сзади наскакивает Курдюков. Он обхватывает Феликса левой рукой за лицо, чтобы зажать рот, а правой с силой бьет стамеской в спину снизу вверх. Стамеска тупая, рука у Курдюкова соскальзывает, и никакого смертоубийства не получается. Феликс лягает Курдюкова ногой, тот отлетает на Ивана Давыдовича, и оба они вместе с креслом рушатся на пол. Пока они барахтаются, лягаясь и размахивая кулаками, Клетчатый хватает Феликса за руки и прижимает его к стене.
П а в е л П а в л о в и ч (насмешливо). Развоевались!.. Н а т а ш а (она уже возлежит на диване в позе мадам Рекамье). Шляпа. И всегда он был шляпой, сколько я его помню... П а в е л П а в л о в и ч. Но соображает быстро, согласитесь...
Иван Давыдович наконец поднимается, брезгливо вытирая ладони о бока, а Курдюков остается на полу – лежит, скорчившись, обхватив руками голову.
И в а н Д а в ы д о в и ч. Господа, так все-таки нельзя. Так мы весь дом разбудим. Я попрошу, господа...
Клетчатый отпускает Феликса, и тот принимается ощупывать ушибленную спину.
Ф е л и к с (дрожащим голосом). Слушайте, а может, вообще хватит на сегодня? Может, вы завтра зайдете? Ведь, ей-богу, дождемся, что кто-нибудь милицию вызовет. А так – завтра... И в а н Д а в ы д о в и ч. Сядьте. Сядьте, я вам говорю! И молчите. (Курдюкову.) А вы вставайте. Хватит валяться, вставайте! Н а т а ш а. Пусть валяется. И в а н Д а в ы д о в и ч (поднимая кресло и усаживаясь). Хорошо, не возражаю. Пусть валяется. К л е т ч а т ы й. А может, вы его... того? И в а н Д а в ы д о в и ч. Да нет. Притворяется... Перепугался. Ладно, пусть пока лежит... Вот что, господа. Ситуация переменилась. Я бы сказал, она усложнилась. П а в е л П а в л о в и ч. Тогда самое время сварить кофе. И в а н Д а в ы д о в и ч. Нет, Князь. Кофе не надо. Нельзя. П а в е л П а в л о в и ч. Нельзя выпить по чашке кофе? Просто кофе? И в а н Д а в ы д о в и ч. Просто? П а в е л П а в л о в и ч. Да! Просто кофе! Крепкий сладкий кофе по-венски. И в а н Д а в ы д о в и ч. Хорошо. Сварите. Вы поняли, что ситуация осложнилась? П а в е л П а в л о в и ч. Ну, естественно! И в а н Д а в ы д о в и ч. Тогда займитесь.
Павел Павлович умело и аккуратно собирает на поднос турку и чашечку со стола Феликса и уносит все это на кухню.
И в а н Д а в ы д о в и ч. Я, господа, прошу вас основательно усвоить, что сегодня нам ничего здесь делать нельзя. (Он принимается собирать обратно в саквояж свои медицинские причиндалы.) Если мы оставим здесь труп, милиция разыщет нас очень быстро. Это понятно? К л е т ч а т ы й. Виноват, герр Магистр, не совсем понятно. Нам же не обязательно оставлять труп здесь! Можно выкинуть его в окно... Седьмой этаж... Вдребезги! Самоубийство!
Иван Давыдович закрывает глаза, поднимает лицо к потолку и некоторое время молчит, сдерживаясь. Потом он говорит: «Пять минут назад сюда приходил человек. Вы заметили это, Ротмистр?»
К л е т ч а т ы й. Так точно, заметил. Сергей Сергеевич. Это из верхней квартиры. И в а н Д а в ы д о в и ч. Вы обратили внимание, что он вас тоже заметил, Ротмистр? К л е т ч а т ы й. Так точно. И в а н Д а в ы д о в и ч. Он запомнил вас, понимаете? Ваш клетчатый пиджак, ваше кепи, ваши усики... Он вас опишет, и вас найдут. Самое большее – через неделю. К у р д ю к о в (из угла, куда он незаметно переполз). А по-моему, ничего страшного. Ротмистр уедет куда-нибудь, отсидится годик... И в а н Д а в ы д о в и ч. Вас, Басаврюк, спросят: откуда вы обрели в эту самую ночь такой великолепный синяк под глазом? К у р д ю к о в. У меня алиби! Я в настоящий момент в больнице!
Пауза. Из кухни доносится гудение кофемолки.
Н а т а ш а (решительно). Нет, господа, я тоже против. Все знают, что мы с Феликсом дружили, вчера он ко мне заходил, ночью меня не было дома... Зачем мне это надо? Затаскают по следователям. Я вообще против того, чтобы Феликса трогать. Его надо принять. К у р д ю к о в (выскакивает из угла, как черт из коробочки). Это за чей же счет? Сука! Шлюха ты беспардонная! И в а н Д а в ы д о в и ч. Да тише вы, Басаврюк! Сколько можно повторять? Ти-ше! Извольте не забывать, что это по вашей вине все мы сидим здесь и не знаем, на что решиться. Так что советую вам вести себя особенно тихо... Молчите! Ни слова более! Сядьте! л е т ч а т ы й. В самом деле, сударь! Труса отпраздновали, а теперь все время мешаете... И в а н Д а в ы д о в и ч. Я, господа, просто не вижу иного пути, кроме как поставить Феликса Александровича перед выбором...
И тут Феликс взрывается. Он изо всей силы грохает ладонью по столу и голосом, сдавленным от страха и ненависти, объявляет: «Убирайтесь к чертовой матери! Все до одного! Сейчас же! Сию же минуту! Чтобы ноги вашей здесь не было!..» В дверях кухни появляется встревоженное лицо Павла Павловича, Клетчатый, хищно присев, делает движение к Феликсу.
Ф е л и к с (Клетчатому). Давай, давай, сволочь, иди! Ты, может, меня и изуродуешь, бандюга, протокольная морда, ну и я здесь тоже все разнесу! Я здесь вам такой звон устрою, что не только дом – весь квартал сбежится! Иди, иди! Я вот сейчас для начала окно высажу вместе с рамой... И в а н Д а в ы д о в и ч (резко). Прекратите истерику! Ф е л и к с (бешено). А вы заткнитесь, председатель месткома! Заткнитесь и выметайтесь отсюда, и заберите с собой всю вашу банду! Немедленно! Слышите? И в а н Д а в ы д о в и ч (очень спокойно). Вашу дочь зовут Лиза... Ф е л и к с. А вам какое дело? И в а н Д а в ы д о в и ч. Вашу дочь зовут Лиза, ваших внуков зовут Фома и Антон, и живут они все на Малой Тупиковой, шестнадцать. Правильно?
Феликс молчит.
И в а н Д а в ы д о в и ч. Я надеюсь, вы понимаете, на что я намекаю? Книжки читаете? Ф е л и к с (угрюмо). По-моему, вы все ненормальные... И в а н Д а в ы д о в и ч. Этот вопрос мы сейчас обсуждать не будем. Если вам удобнее считать нас ненормальными – пожалуйста. В известном смысле вы, может быть, и правы... Ф е л и к с. Что вам от меня надо – вот чего я никак не пойму! И в а н Д а в ы д о в и ч. Сейчас поймете. Судьбе угодно было, чтобы вы проникли в нашу тайну... Ф е л и к с. Никаких тайн не знаю и знать не хочу. И в а н Д а в ы д о в и ч. Пустое, пустое. Следствие закончено. Не об этом вам надлежит думать. Вам предстоит сейчас сделать выбор: умереть или стать бессмертным.
Феликс молчит. На лице его тупая покорность.
И в а н Д а в ы д о в и ч. Вы готовы сделать такой выбор?
Феликс медленно качает головой.
И в а н Д а в ы д о в и ч. Почему? Ф е л и к с (морщась). Почему? Да потому что нет у меня никакого выбора... Если я выберу смерть, вы меня выкинете в окно... А если я выберу это ваше бессмертие... я вообще не знаю, какую гадость вы мне тогда сделаете. Чего от вас еще ждать? Н а т а ш а. Святая дева! До чего же глупы эти современные мужчины! Я, помнится, моментально поняла, о чем идет речь... И в а н Д а в ы д о в и ч. Не забывайте, мадам, это было пятьсот лет назад... Н а т а ш а. Четыреста семьдесят три! И в а н Д а в ы д о в и ч. Да-да, конечно... Вспомните, тогда ведь все это было в порядке вещей: бессмертие, философский камень, полеты на метле... Вам ничего не стоило тогда поверить по первому слову! А вы представьте себе, что пишете заметку для газеты «Кузница кадров», а тут к вам приходят и предлагают бессмертие... К у р д ю к о в (из угла). Да врет он все. Ваньку он перед вами валяет. Давным-давно он уже все порешил и выбрал... И в а н Д а в ы д о в и ч. Перестаньте, Басаврюк, вы уже надоели. Все это теперь несущественно. На самом деле даже интереснее, если Феликс Александрович действительно ничего не понимает. (Некоторое время он пристально, изучающе смотрит Феликсу в лицо, а потом начинает с выражением, словно читая по тексту, говорить.) Недалеко от города, в Крапивкином Яру, есть карстовая пещера, мало кому здесь известная. В самой глубине ее, в гроте, совсем уж никому не известном, свисает со свода одинокий сталактит весьма необычного красного цвета. С него в каменное углубление – кап-кап-кап! – капает Эликсир Жизни. Пять ложечек в три года. Этот Эликсир не спасает ни от яда, ни от пули, ни от меча. Но он спасает от старости. Говоря современным языком, это некий гормональный регулятор необычайной мощности. Одной ложечки в три года достаточно, чтобы воспрепятствовать любым процессам старения в человеческом организме. Любым! Организм не стареет! Совсем не стареет. Вот вам сейчас пятьдесят лет. Начнете пить Эликсир, и вам всегда будет пятьдесят лет. Всегда. Вечно. Понимаете? По чайной ложке в три года, и вам навсегда останется пятьдесят лет.
Феликс пожимает плечами. Не то чтобы он поверил всему этому, но трезвая, разумная речь Ивана Давыдовича, а в особенности применяемые им научные термины производят на него успокаивающее действие.
И в а н Д а в ы д о в и ч. Беда, однако же, в том, что ложечек всего пять. А значит, и бессмертных может быть только пять. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Понятно? Или нет? Ф е л и к с. Шестой лишний? И в а н Д а в ы д о в и ч. Истинно так. Ф е л и к с (оживляясь). Но ведь я, кажется, и не претендую... И в а н Д а в ы д о в и ч. То есть вам угодно выбрать смерть? Ф е л и к с. Почему – смерть? Меня это вообще не касается! Вы идите своей дорогой, а я – своей... Обходились же мы друг без друга до сих пор! И в а н Д а в ы д о в и ч. Я вижу, вы пока еще не поняли ситуации. Эликсира хватает только на пятерых. Надо ли объяснять, что желающих нашлось бы гораздо больше! Если бы сведения распространились, у нас бы просто отняли Источник, и мы бы перестали быть бессмертными. Понимаете? Мы все были бы давным-давно мертвы, если бы не сумели до сих пор – на протяжении веков! – сохранить тайну. Вы эту тайну узнали, и теперь уж одно из двух: или вы присоединяетесь к нам, или, извините, мы будем вынуждены вас уничтожить. Ф е л и к с. Глупости какие... Что же, по-вашему, я побегу сейчас везде рассказывать эту вашу тайну? Что я, по-вашему, идиот? Меня же немедленно посадят в психушку! И в а н Д а в ы д о в и ч. Может быть. И даже наверное. Но согласитесь, уже через неделю сотни и сотни дураков выйдут на склоны Крапивкина Яра с мотыгами и лопатами... Люди так легковерны, люди так жаждут чуда! Нет, рисковать мы не станем. Видите ли, у нас есть опыт. Мы можем быть спокойны лишь тогда, когда тайну знают только пятеро. Ф е л и к с. Но я же никому не скажу! Ну зачем это мне, сами подумайте! Ну поверьте вы мне, ради бога! Дочерью своей клянусь! И в а н Д а в ы д о в и ч. Не надо. Это бессмысленно. Ф е л и к с. Но вы же должны понимать: у меня дочь, внуки, как же я в таких условиях могу проговориться? Это же не в моих интересах! И в а н Д а в ы д о в и ч. Вы прекрасно знаете, вы же писатель, что люди сплошь да рядом поступают именно против своих интересов.
В кабинете появляется Павел Павлович с подносом, на котором дымятся шесть чашечек кофе.
П а в е л П а в л о в и ч. А вот и кофеек! Выпьем по чашечке кофе, и все проблемы разрешатся сами собой! Прошу! (Наташе.) Прошу, деточка... Ротмистр! Магистр, прошу вас... Вам приглянулась эта чашечка? Пожалуйста!.. Феликс Александрович! Я вижу, они вас совсем разволновали, хлебните черной бодрости, успокойтесь... Басаврюк, дружище, старый боевой конь, что же ты забился в угол? Чашечку кофе – и все пройдет!
Обнеся всех, он возвращается на свое место к журнальному столику с оставшейся чашечкой и, очень довольный, усаживается в кресло. Феликс жадно, обжигаясь, выхлебывает свой кофе, ставит пустую чашечку на стол и озирается. Один только Павел Павлович с видимым наслаждением вкушает «черную бодрость». Иван же Давыдович, хотя и поднес свою чашечку к губам, но не пьет, а пристально смотрит на Феликса. И Наташа не пьет: держа чашечку на весу, она внимательно следит за Иваном Давыдовичем. Ротмистр ищет, где бы ему присесть. А Курдюков у себя в углу уже совсем было нацелился отхлебнуть и вдруг перехватывает взгляд Наташи и замирает. Иван Давыдович осторожно ставит свою чашечку на стол и отодвигает ее от себя указательным пальцем. И тогда Курдюков с проклятьем швыряет свою чашечку прямо в книжную стенку.
Ф е л и к с (вздрогнув от неожиданности). Скотина! Что ты делаешь? П а в е л П а в л о в и ч (хладнокровно). Что, муха попала? У вас, Феликс Александрович, полно мух на кухне... И в а н Д а в ы д о в и ч. Князь! Ведь я же вас просил! Ну куда мы теперь денем труп! П а в е л П а в л о в и ч (ерничает). Труп? Какой труп? Где труп? Не вижу никакого трупа!
Наташа высоко поднимает свою чашечку и демонстративно медленно выливает кофе на пол. Ротмистр, звучно крякнув, ставит свою чашку на пол и осторожно задвигает ногой под диван.
П а в е л П а в л о в и ч. Ну, господа, на вас не угодишь... Такой прекрасный кофе удался... Не правда ли, Феликс Александрович? К у р д ю к о в (остервенело). Гад ядовитый! Евнух византийский! Отравитель! За что? Что я тебе сделал? Убью! И в а н Д а в ы д о в и ч. Басаврюк! Если вы еще раз позволите себе повысить голос, я прикажу заклеить вам рот! К у р д ю к о в (страстным шепотом). Но он же отравить меня хотел! За что? И в а н Д а в ы д о в и ч. Да почему вы решили, что именно вас? К у р д ю к о в. Да потому что я сманил у него этого треклятого повара! Помните, у него был повар, Жерар Декотиль? Я его переманил, и с тех пор он меня ненавидит!
Иван Давыдович смотрит на Павла Павловича.
П а в е л П а в л о в и ч (благодушно). Да я и думать об этом забыл!.. Хотя повар был и на самом деле замечательный... Уникальный был повар...
Феликс наконец осознает происходящее. Он медленно поднимается на ноги. Смотрит на свою чашку. Лицо его искажается.
Ф е л и к с (с трудом). Так это что – вы меня отравили? Павел Павлович! П а в е л П а в л о в и ч. Ну-ну, Феликс Александрович! Что за мысли? Ф е л и к с (не слушая). Пустите, пустите! Меня тошнит, пустите!
Он выбирается из-за стола и, оттолкнув Клетчатого, устремляется в уборную. Он сидит на краю ванны, весь мокрый, и вытирается полотенцем, тупо глядя перед собой, а Клетчатый, стоя в дверях, благодушно разглагольствует: «Напрасно беспокоитесь, Феликс Александрович. Это он, конечно, целился не в вас. Если бы он целился в вас, вы бы уже сейчас у нас тут похолодели... А вот в кого он целился – это вопрос! Конечно, у нас здесь теперь один лишний, но вот кого ОН считает лишним?..»
Ф е л и к с (бормочет). Зверье... Ну и зверье... Прямо вурдалаки какие-то... К л е т ч а т ы й. А как же? А что прикажете делать? У меня, правда, опыта соответствующего нет пока. Не знаю, как это у них раньше проделывалось. Я ведь при Источнике всего полтораста лет состою.
Феликс, вытираясь полотенцем, смотрит на него с ужасом и изумлением, как на редкостное и страшное животное.
К л е т ч а т ы й. Сам-то я восемьсот второго года рождения. Самый здесь молодой, хе-хе... Из молодых, да ранний, как говорится... Но здесь, знаете ли, дело не в годах. Здесь главное – характер. Я не люблю, знаете ли, чтобы со мной шутили, и никто со мной шутить не рискует. Ко мне сам Магистр, знаете ли... хе-хе... не говоря уже о всех прочих... Быстрота и натиск прежде всего, я так полагаю. Извольте, к примеру, сравнить ваше нынешнее поведение с тем, как я себя вел при аналогичном, так сказать, выборе... Я тогда в этих краях по жандармской части служил и занимался преимущественно контрабандистами. И удалось мне выследить одну загадочную пятерку... Пещерка у них, вижу, в Крапивкином Яру, осторожное поведение... Ну, думаю, тут можно попользоваться. Выбрал одного из них, который показался мне пожиже, и взял. Лично. А взявши, обработал. Обрабатывать я уже умел хорошо, начальство не жаловалось. Ну-с, вот он мне все и выложил... Заметьте, Феликс Александрович: то, что вам нынче на блюдечке преподнесли по ходу обстоятельств, мне досталось в поте лица... Всю ночь, помню, как каторжный... Однако, в отличие от вас, я быстро разобрался, что к чему. Там, где место только пятерым, там шестому не место. А значит – камень ему на шею, а сам – в дамках... Ф е л и к с. Так вот почему этот идиот на меня кинулся... со стамеской со своей... как ненормальный... К л е т ч а т ы й. Не знаю, не знаю, Феликс Александрович... Думаю, понормальнее он нас с вами, как говорится... Да и то сказать: вот у кого опыт. С одна тысяча двести восемьдесят второго годика! Такое время при Источнике удержаться – это надобно уметь! Ф е л и к с. Костя? С тысяча двести? Да он же просто рифмоплет грошовый! К л е т ч а т ы й. Ну, это как вам будет удобнее... Облегчились? Тогда пойдемте.
Они возвращаются в кабинет. В кабинете молчание. Наташа вдумчиво, с каким-то даже сладострастием обрабатывает помадой губы. Павел Павлович озабоченно колдует со своими серебристыми трубочками над ломтиками ветчины, разложенными на дольках белого пухлого калача. Иван Давыдович читает рукопись Феликса, брови у него изумленно задраны. Курдюков же, заложив руки за спину, как хищник в клетке, кружит в тесном пространстве между дверью и окном. Битое лицо его искривлено так, что видны зубы. Увидев Феликса, он пятится к стене и прижимается к ней лопатками.
П а в е л П а в л о в и ч (взглянув на Феликса). Ну? Всё в порядке? Мнительность, голубчик, мнительность! Нельзя так волноваться из-за каждого пустяка... И в а н Д а в ы д о в и ч (бодро). Так! Давайте заканчивать. Ротмистр, пожалуйста, приглядывайте за обоими. Вы, Басаврюк, стойте где стоите и не смейте кричать. Иначе я тут же, немедленно объявлю, что я против вас. Феликс Александрович, вы – сюда. И руки на стол, пожалуйста. Итак... С вашего позволения, я буду сразу переводить на русский... М-м-м... «В соответствии с основным... э-э-э... установлением... а именно, с параграфом его четырнадцатым... э-э... трактующим о важностях...» Проклятье! Как бы это... Князь, подскажите, как это будет лучше – «ахэллан»... П а в е л П а в л о в и ч. «Наизначительнейшее наисамейшее важное». И в а н Д а в ы д о в и ч. Чудовищно неуклюже! П а в е л П а в л о в и ч. Да пропустите вы всю эту белиберду, Магистр! Кому это сейчас нужно? Давайте суть, и своими словами!.. И в а н Д а в ы д о в и ч. Вы не возражаете, Феликс Александрович? Ф е л и к с. Я вам только одно скажу. Если ко мне кто-нибудь из вас приблизится... И в а н Д а в ы д о в и ч. Феликс Александрович! Совсем не об этом сейчас речь... Хорошо, я самую суть. Случай чрезвычайный, присутствуют все пятеро, каждый имеет один голос. Очередность высказываний произвольная либо по жребию, если кто-нибудь потребует. Прошу. К у р д ю к о в (свистящим шепотом). Я протестую! И в а н Д а в ы д о в и ч. В чем дело? К у р д ю к о в. Он же не выбрал! Он же должен сначала выбрать! Н а т а ш а (глядясь в зеркальце). Ты полагаешь, котик, что он выберет смерть?
Все, кроме Курдюкова и Феликса, улыбаются.
К у р д ю к о в. Я ничего не полагаю! Я полагаю, что должен быть порядок! Мы его должны спросить, а он должен нам ответить! И в а н Д а в ы д о в и ч. Ну, хорошо. Принято. Феликс Александрович, официально осведомляемся у вас, что вам угодно выбрать: смерть или бессмертие?
Белый как простыня, Феликс откидывается на спинку стула и в тоске хрустит пальцами.
Ф е л и к с. Объясните хоть, что все это значит? Я не понимаю! И в а н Д а в ы д о в и ч (с досадой). Все вы прекрасно понимаете! Ну, хорошо... Если вы выбираете смерть, то вы умрете, и тогда голосовать нам, естественно, не будет надобности. Если же вы выберете бессмертие, тогда вы становитесь соискателем, и дальнейшая ситуация подлежит нашему обсуждению.
Пауза.
И в а н Д а в ы д о в и ч (с некоторым раздражением). Неужели нельзя обойтись без этих драматических пауз? Н а т а ш а (тоже с раздражением). Действительно, Феликс! Тянешь кота за хвост... Ф е л и к с. Я вообще не хочу выбирать. К у р д ю к о в (хлопнув себя по коленям). Ну, вот и прекрасно! И голосовать нечего! И в а н Д а в ы д о в и ч (с ошарашенным видом). Нет, позвольте... Н а т а ш а. Феликс, ты доиграешься! Здесь тебе не редколлегия! П а в е л П а в л о в и ч. Феликс Александрович, это что? Шутка? Извольте объясниться... К у р д ю к о в. А чего объясняться? Чего тут объясняться-то? Он же этот... гуманист! Тут и объясняться нечего! Бессмертия он не хочет, не нужно ему бессмертие, а отпустить его нельзя... Так чего же тут объясняться? Н а т а ш а (взявшись за голову). Ой, да перестань ты тарахтеть! И в а н Д а в ы д о в и ч. Вы, Феликс Александрович, неудачное время выбрали для того, чтобы оригинальничать... П а в е л П а в л о в и ч. Вот именно. Объяснитесь! К у р д ю к о в. А чего тут объяс...
Иван Давыдович обращает на него свой мрачный взор, и Курдюков замолкает на полуслове.
Ф е л и к с. Я в эту игру играть не намерен. Н а т а ш а (нежно). Это же не игра, дурачок! Никак ты свой рационализм преодолеть не можешь. Убьют тебя – и все. Потому что это не игра. Это кусочек твоей жизни. Может быть, последний. К у р д ю к о в. А что она вмешивается? Что она лезет? Где это видано, чтобы уговаривали? Н а т а ш а (указывает пальцем на Феликса). Я – за него. К у р д ю к о в. Не по правилам! Н а т а ш а. Пусть он тебя удавит, а я ему помогу.
Курдюков хватается за лицо руками и с тоненьким писком съезжает по стене на пол.
П а в е л П а в л о в и ч. Магистр, а может быть, Феликс Александрович просто плохо себе представляет конкретную процедуру? Может быть, нам следует ввести его в подробности? И в а н Д а в ы д о в и ч. Может быть. Попробуем. Итак, Феликс Александрович, когда вы выбрали бессмертие, вы тотчас становитесь соискателем. В этом случае мы утверждаем вашу кандидатуру простым большинством голосов, и тогда вам с господином Курдюковым останется решить вопрос между собой. Это может быть поединок, это может быть жребий, как вы договоритесь. Мы же, со своей стороны, сосредоточиваем свои усилия на том, чтобы ваше... э-э... соревнование... не вызвало нежелательных осложнений. Обеспечение алиби... избавление от мертвого тела... необходимые лжесвидетельства... и так далее. Теперь процедура вам ясна? Ф е л и к с (решительно). Делайте что хотите. В «шестой лишний» я с вами играть не буду. П а в е л П а в л о в и ч (потрясенный). Вы отказываетесь от шанса на бессмертие?
Феликс молчит.
П а в е л П а в л о в и ч (с восхищением). Господа! Да он же любопытная фигура! Вот уж никогда бы не подумал! Писателишка, бумагомарака!.. Вы знаете, господа, я, пожалуй, тоже за него. Я – консерватор, господа, я не поклонник новшеств, но такой поворот событий! Или я ничего не понимаю, или теперь уже новые времена наступили наконец... Хомо новус? К у р д ю к о в (скулит). Да какой там хомо новус! Что вам, глаза позалепило? Продаст же он вас! Продаст! Для виду сейчас согласится, а завтра уже продаст! Да посмотрите вы на него! Ну зачем ему бессмертие? Он же гуманист, у него же принципы! У него же внуков двое! Как он от них откажется? Феликс, ну скажи ты им, ну зачем тебе бессмертие, если у тебя руки будут в крови? Ведь тебе зарезать меня придется, Феликс! Как ты своей Лизке в глаза-то посмотришь? Н а т а ш а (насмешливо). А что это он вмешивается? Что он лезет? Где это видано, чтоб отговаривали? К у р д ю к о в (не слушая). Феликс! Ты меня послушай, я ведь тебя знаю, тебе же это не понравится. Ведь бессмертие – это и не жизнь, если хочешь, это совсем иное существование! Ведь я же знаю, что ты больше всего ценишь... Тебе дружбу подавай; тебе любовь подавай... А ведь ничего этого не будет! Откуда? Всю жизнь скрываться, от дочери скрываться, от внуков... Они же постареют, а ты нет! От властей скрываться, Феликс! Лет десять на одном месте – больше нельзя. И так веками, век за веком! (Зловеще.) А потом ты станешь такой, как мы. Ты станешь такой, как я! Ты очень меня любишь, Феликс? Посмотри, посмотри повнимательнее, я – твое зеркало.
Все слушают, всем очень интересно.
П а в е л П а в л о в и ч (блеет одобрительно). Неплохо, очень неплохо изложено. Я бы еще добавил из Шмальгаузена: «Природа отняла у нас бессмертие, давши взамен любовь». Но ведь и наоборот, господа! И наоборот! К у р д ю к о в (не слушая). Это же нужен особый талант, Феликс, – получать удовольствие от бессмертия! Это тебе не рюмку водки выпить, не повестуху настрочить... Ф е л и к с. Что ты меня уговариваешь? Ты своих вон динозавров уговаривай, чтобы они от меня отстали! Мне твое бессмертие даром не нужно... П а в е л П а в л о в и ч. Позвольте, позвольте! Не увлекаетесь ли вы, Феликс Александрович? Как-никак бессмертие есть заветнейшая мечта рода человеческого! Величайшие из великих по пояс в крови не постеснялись бы пройти за бессмертием!.. Не гордыня ли вас обуревает, Феликс Александрович? Или вы все еще не верите? Ф е л и к с. Во-первых, я действительно вам не верю... П а в е л П а в л о в и ч. Но это же, простите, глупо. Нельзя же в своем рационализме доходить до глупости! Ф е л и к с. А во-вторых, вы мне предлагаете не бессмертие. Вы мне предлагаете совершить убийство. К у р д ю к о в (страстно). Убийство, Феликс! Убийство! Ф е л и к с. Величайшее из великих – ладно. Знаю я, кого вы имеете в виду. Чингисхан, Тамерлан... Вы мне их в пример не ставьте, я этих маньяков с детства ненавижу... К у р д ю к о в (подхалимски). Живодеры, садисты... Ф е л и к с. Молчи! Ты мне никогда особенно не нравился, чего там... а сейчас вообще омерзителен. Такой ты подонок оказался, Костя, просто подлец... Но убить! Да нет, чушь какая-то... Несерьезно. П а в е л П а в л о в и ч. А вы что же, друг мой, хотите получить бессмертие даром? Забавно! Много ли вы в своей жизни получили даром? Очередь в кооператив получить – и то весь в грязи изваляешься... А тут все-таки бессмертие! Ф е л и к с. Даром я ничего не получил, это верно. Но и в грязи никогда не валялся... К у р д ю к о в. Ой ли? Ф е л и к с. Да уж задниц не лизал, как некоторые! Я работал! Работал и зарабатывал! П а в е л П а в л о в и ч. Ну, вот и поработайте еще разок... Ф е л и к с (угрюмо). Это не работа. К л е т ч а т ы й и Н а т а ш а (в один голос). Почему это не работа?
Павел Павлович ухмыляется. Феликс оглядывает их всех по очереди.
Ф е л и к с. Господи! Подумать только – Пушкин умер, а эти бессмертны! Коперник умер. Галилей умер... К у р д ю к о в (остервенело). Вот он! Вот он! Моралист вонючий в натуральную величину! Неужели вы и теперь не понимаете, с кем имеете дело? Н а т а ш а. Да-а, Феликс... Я, конечно, не Галилей, но Афродитой, помнится, ты меня называл, и не раз... П а в е л П а в л о в и ч (поучительно). Что жизнь, что бессмертие – и то и другое нам дарует Фатум. Только жизнь дается нам – грехами родителей – бесплатно, а за бессмертие надобно платить! Так что мне кажется, господа, вопрос решен. Феликс Александрович погорячится-погорячится, да потом и поймет, что жизнь дается человеку один раз, и коль скоро возникла возможность растянуть ее на неопределенный срок, то таковой возможностью надлежит воспользоваться независимо от того, какая у тебя фамилия – Галилей, Велизарий, Снегирев, Петров, Иванов... Феликсу Александровичу не нравится цена, которую придется ему за это платить. Тоже не страшно! Внутренне соберется, надуется... ну, нос зажмет в крайнем случае, если уж так его с души воротит... Кстати, вы, кажется, вообразили себе, Феликс Александрович, что вам предстоит перепиливать сопернику горло тупым ножом или, понимаете ли... как он вас, понимаете ли... стамеской... или шилом... К у р д ю к о в. Только на шпагах. П а в е л П а в л о в и ч. Ну зачем обязательно на шпагах? Две пилюльки, совершенно одинаковые на вид, на цвет, на запах... (Лезет в часовой кармашек, достает плоскую округлую коробочку, раскрывает и показывает издали.) Вы берете себе одну, соперник берет оставшуюся... Все решается в полминуты, не более... и никаких мучений, никаких судорог, рецепт древний, многократно испытанный... И заметьте, мук совести никаких: Фатум! К у р д ю к о в (кричит). Только на шпагах! Н а т а ш а (задумчиво). Вообще-то, на шпагах зрелищнее... П а в е л П а в л о в и ч. Во-первых, где взять шпаги? Во-вторых, где они будут драться? В этой комнате? На площади? Где? В-третьих, куда деть труп, покрытый колотыми и рублеными ранами?.. Хотя, разумеется, это гораздо более зрелищно. Особенно если принять во внимание, что Феликс Александрович сроду шпаги в руке не держал... Это вы совершенно правильно подметили, деточка: такие бои особенно привлекательны при явном превосходстве одной из сторон... И в а н Д а в ы д о в и ч. Господа, я вынужден еще раз напомнить. Никаких акций в этой квартире. В том числе и с вашими пилюлями, Князь. П а в е л П а в л о в и ч (вкрадчиво). Ни малейших следов! И в а н Д а в ы д о в и ч. Нет! П а в е л П а в л о в и ч. Я гарантирую вам совершенно. Просто с человеком случится инфаркт. Или апоплексический удар... И в а н Д а в ы д о в и ч. Нет, нет и нет! Не сегодня и не здесь. Собственно, это вообще особый разговор. Вы забегаете, Князь! Давайте подбивать итоги. Вы, Князь, за соискателя. Вы, сударыня, тоже. Басаврюка я не спрашиваю. Ротмистр? К л е т ч а т ы й (бросает окурок на пол и задумчиво растирает его подошвой). Всячески прошу вашего прощения, герр Магистр, но я против. И вы извините, мадам, целую ручки, и вы, ваше сиятельство. Упаси бог, никого обидеть не хочу и никого не хочу задеть, однако мнение в этом вопросе имею свое и, можно сказать, выстраданное. Господина Басаврюка я знаю с самого моего начала, давно уже, и никаких внезапностей от него ждать не приходится... Н а т а ш а (насмешливо). И нынешнюю прелестную ночку вы тоже ожидали, Ротмистр? К л е т ч а т ы й. В нынешней прелестной ночке, мадам, прелестного, конечно же, мало, но ничего такого уж совсем плохого в ней тоже нет. Все утрясется, все будет путем. Господин Басаврюк – человек слабый, оступился, и еще, может быть, оступится – больно уж робок. Но он же наш... А вот господин писатель, не в обиду ему будет сказано... Не верю я вам, господин писатель, не верю и никогда не поверю. И не потому я не верю, что вы плохой какой-нибудь или себе на уме – упаси бог! Просто не понимаю я вас. Не понимаю я, что вам нравится, а что вам не нравится, чего вы хотите, а чего не хотите... Чужой вы, Феликс Александрович. Будете вы в нашей маленькой компании как заноза в живом теле, и лучше для всех для нас, если вас не будет. Совсем. Извините великодушно, ежели кого задел. Намерения такого не было. К у р д ю к о в (прочувствованно). Спасибо, Ротмистр! Никогда я вам этого не забуду!
Клетчатый с заметной опаской взглядывает на него, делает неопределенный жест и принимается раскуривать очередную сигарету. И тут вдруг Курдюков, сидевший до сих пор на корточках у стены, падает на четвереньки, быстро, как паук, подбегает к Ивану Давыдовичу и стукается лбом в пол у его туфли.
И в а н Д а в ы д о в и ч (брезгливо-небрежно). Хорошо, хорошо, я учту... Господа! Голоса разделились поровну. Решающий голос оказался за мной...
Он со значением смотрит на Феликса, и на лице его вдруг появляется выражение изумления и озабоченности. Феликс больше не похож на человека, загнанного в ловушку. Он сидит вольно, несколько развалясь, закинув руку за спинку своего кресла. Лицо его спокойно и отрешенно, он явно не слышит и не слушает, он даже улыбается углом рта! Наступившая тишина возвращает его к действительности. Он как бы спохватывается и принимается шарить рукой по бумагам на столе, находит сигареты, сует одну в рот, а зажигалки нет, и он смотрит на Клетчатого.
Ф е л и к с. Ротмистр, отдайте зажигалку! Давайте, давайте, я видел! Что за манеры?.. (Ротмистр торопливо возвращает зажигалку.) И перестаньте вы мусорить на пол! Вот пепельница, вытряхните и пользуйтесь!
Все смотрят на него настороженно.
Ф е л и к с. Господа динозавры, я тут несколько отвлекся и, кажется, что-то пропустил... Но, понимаете ли, когда до меня дошло наконец, что убивать вы меня сегодня не осмелитесь, мне значительно, знаете ли, полегчало... И знаете, что я обнаружил? У нас тут с вами, слава богу, не трагедия, а комедия! Комедия, господа! Забавно, правда?
Все молчат.
К у р д ю к о в (неуверенно). Комедия ему... Н а т а ш а. Если комедия, то почему же не смешно? Ф е л и к с (весело). А это такая особенная комедия! Когда смеяться нечему! Когда впору плакать, а не смеяться!
И снова все молчат, и каждый силится понять, что же это вдруг произошло с соискателем.
И в а н Д а в ы д о в и ч. Я хотел бы поговорить с соискателем наедине. П а в е л П а в л о в и ч. И я тоже... И в а н Д а в ы д о в и ч. Куда у вас здесь можно пройти, Феликс Александрович? Ф е л и к с. Что за тайны?.. А впрочем, пройдемте в спальню.
В спальне Феликс садится на тахту, Иван же Давыдович устраивается напротив него на стуле.
И в а н Д а в ы д о в и ч. Итак, насколько я понял по вашему поведению, вы наконец сделали выбор. Ф е л и к с. Какой выбор? Смерть или бессмертие? Слушайте, бессмертие, может быть, и неплохая штука, не знаю... но в такой компании... В такой компании только покойников обмывать! И в а н Д а в ы д о в и ч. Ах, Феликс Александрович, как вы меня беспокоите! Но смерть же еще хуже! Да, конечно, по-своему вы правы. Когда обыкновенный серенький человечек волею судьбы обретает бессмертие, он с неизбежностью превращается через два-три века в мономана... Черта характера, превалировавшая в начале его жизни, становится со временем единственной. Так появляется ваша эротоманка Наталья Петровна, маркитанточка из рейтарского обоза, – ныне в ней, кроме маркитантки, уже ничего не осталось, и надо быть, простите, Феликс Александрович, таким вот непритязательным кобелем, как вы, чтобы увидеть в ней женщину... Ф е л и к с. Ну, знаете, ваш Павел Павлович не лучше! И в а н Д а в ы д о в и ч. Нисколько не лучше! Я не знаю, с чего он начинал, он очень древний человек, но сейчас это просто гигантский вкусовой пупырышек... Ф е л и к с. Недурно сказано! И в а н Д а в ы д о в и ч. Благодарю вас... У меня вообще впечатление, Феликс Александрович, что из всей нашей компании я вызываю у вас наименьшее отвращение. Я угадал?
Феликс неопределенно пожимает плечами.
И в а н Д а в ы д о в и ч. Благодарю вас еще раз. Именно поэтому я и решил потолковать с вами без свидетелей. Чтобы не маячили рядом совсем уж омерзительные рожи. Не стану притворяться: я – холодный, равнодушный и жестокий человек. Иначе и быть не может. Мне пять сотен лет. За такое время волей-неволей освобождаешься от самых разнообразных химер: любовь, дружба, честь и прочее. Мы все такие. Но в отличие от моих компаньонов я имею идею. Для меня существует в этом мире нечто такое, что нельзя ни сожрать, ни облапить, ни засунуть под зад, чтобы стало еще мягче. За свою жизнь я сделал сто семь открытий и изобретений. Я выделил фосфор на пятьдесят лет раньше Брандта, я открыл хроматографию на двадцать лет раньше Цвета, я разработал периодическую систему примерно в те же годы, что и Дмитрий Иванович... По понятным причинам я вынужден сохранять все это в тайне, иначе мое имя уже гремело бы в истории – гремело бы слишком, и это опасно. Всю жизнь я занимаюсь тем, что нынче назвали бы синтезированием Эликсира. Я хочу, чтобы его было вдосталь. Нет-нет, не из гуманных соображений! Меня не интересуют судьбы человечества. У меня свои резоны. Простейший из них: мне надоело сидеть в подполье и шарахаться от каждого жандарма. Мне надоело опережать свое время в открытиях. Мне надоело быть номером ноль. Я хочу быть номером один. Но мне не на кого опереться. Есть только четыре человека в мире, которым я мог бы довериться, но они абсолютно бесполезны для меня. А мне нужен помощник! Мне нужен интеллигентный собеседник, способный оценить красоту мысли, а не только красоту бабы или пирожка с капустой. Таким помощником можете стать вы. По сути, Курдюков оказал мне услугу: он поставил вас передо мной. Я же вижу – вы человек идеи. Так подумайте: попадется ли вам идея, еще более достойная, чем моя! Ф е л и к с. Я ничего не понимаю в химии. И в а н Д а в ы д о в и ч. В химии понимаю я! Мне не нужен человек, который понимает в химии. Мне нужен человек, который понимает в идеях. Я устал быть один. Мне нужен собеседник, мне нужен оппонент. Соглашайтесь, Феликс Александрович! До сих пор бессмертных творил Фатум. С вашей помощью их начну творить я. Соглашайтесь! Ф е л и к с (задумчиво). Н-да-а-а... И в а н Д а в ы д о в и ч. Вас смущает плата? Это пустяки. Нигде не сказано, что вы обязаны убирать его собственными руками. Я обойдусь без вас. Ф е л и к с. Всунете меня в сапоги убитого? И в а н Д а в ы д о в и ч. Вздор, вздор, Феликс Александрович! Детский лепет, а вы же взрослый человек... Константин Курдюков прожил на свете семьсот лет! И все это время он только и делал, что жрал, пил, грабил, портил малолетних и убивал. Он прожил лишних шестьсот пятьдесят лет! Это просто патологический трус, который боится смерти так, что готов пойти на смерть, чтобы только избежать ее! Шестьсот пятьдесят лет, как он уже мертв, а вы разводите антимонии вокруг его сапог! Кстати, и не его это сапоги, он сам влез в них, когда они были еще теплые... Послушайте, я был о вас лучшего мнения! Вам предлагают грандиознейшую цель, а вы думаете – о чем? Ф е л и к с. Ни вы, ни я не имеем права решать, кому жить, а кому умереть. И в а н Д а в ы д о в и ч. Ах, как с вами трудно! Гораздо труднее, чем я ожидал! Чего же вы добиваетесь тогда? Ведь пойдете под нож! Ф е л и к с. Да не пойду я под нож! И в а н Д а в ы д о в и ч. Пойдете под нож, как баран, а это ничтожество, эта тварь дрожащая, коей шестьсот лет как пора уже сгнить дотла, еще шестьсот лет будет порхать с цветка на цветок без малейшей пользы для чего бы то ни было! А я-то вообразил, что у вас действительно есть принципы. Ведь вы же писатель. Ведь сказано же было таким, как вы, что настоящий писатель должен жить долго! Вам же предоставляется возможность, какой не было ни у кого! Переварить в душе своей многовековой личный опыт, одарить человечество многовековой мудростью... Вы подумайте, сколько книг у вас впереди, Феликс Александрович! И каких книг – невиданных, небывалых!.. Да, а я-то думал, что вы действительно готовы сделать что-то для человечества, о котором с такой страстью распинаетесь в своей статье... Эх вы, мотыльки, эфемеры!.. Ф е л и к с. Вот мы уже и о пользе для человечества заговорили...
Иван Давыдович поднимается и некоторое время смотрит на Феликса.
И в а н Д а в ы д о в и ч. Вам, кажется, угодно разыгрывать из себя героя, Феликс Александрович, но ведь сочтут-то вас глупцом!
Он выходит, и сейчас же в спальне объявляется Клетчатый.
К л е т ч а т ы й. Прошу прощения... Телефончик...
Он быстро и ловко отключает телефонный аппарат и несет его к двери. Перед дверью он приостанавливается.
К л е т ч а т ы й. Давеча, Феликс Александрович, я мог показаться вам дерзким. Так вот, не хотелось бы оставить такое впечатление. В моей натуре главное – прямота. Что думаю, то и говорю. Однако же намерения обидеть, задеть, возвыситься никогда не имею. Ф е л и к с. Валите, валите отсюда... Да с телефоном поосторожнее! Это вам не предмет конфискации! Можете позвать следующего. Очередь небось уже выстроилась...
Оставшись один, Феликс валится спиной на кушетку и закладывает руки под голову. Бормочет: «Ничего... Тут главное – нервы. Ни черта они мне не сделают, не посмеют!..» У двери в спальню Курдюков уламывает Клетчатого.
К у р д ю к о в. Убежит, я вам говорю! Обязательно удерет! Вы же его не знаете! К л е т ч а т ы й. Куда удерет? Седьмой этаж, сударь... К у р д ю к о в. Придумает что-нибудь! Дайте я сам посмотрю... К л е т ч а т ы й. Нечего вам там смотреть, все уже осмотрено... К у р д ю к о в. Ну я прошу вас, Ротмистр! Как благородный человек! Я вам честно скажу: мне с ним поговорить надо... К л е т ч а т ы й. Поговорить... Вы его там шлепнете, а мне потом отвечать... К у р д ю к о в (страстно, показывая растопыренные ладони). Чем? Чем я его шлепну? А если даже и шлепну? Что здесь плохого? К л е т ч а т ы й. Плохого здесь, может быть, ничего и нет, но ведь, с другой стороны, приказ есть приказ... (Он быстро и профессионально обшаривает Курдюкова.) Ладно уж, идите, господин Басаврюк. И помогай вам бог...
Курдюков на цыпочках входит в спальню и плотно закрывает за собой дверь. Феликс встречает его угрюмым взглядом, но Курдюкова это нисколько не смущает. Он подскакивает к тахте и наклоняется к самому уху Феликса.
К у р д ю к о в. Значит, делаем так. Я беру на себя Ротмистра. От тебя же требуется только одно: держи Магистра за руки, да покрепче. Остальное – мое дело.
Феликс отодвигает его растопыренной ладонью и садится.
К у р д ю к о в. Ну, что уставился? Надо нам из этого дерьма выбираться или не надо? Чего хорошего, если тебя шлепнут или меня шлепнут? Ты, может, думаешь, что о тебе кто-нибудь позаботится? Чего тебе тут Магистр наплел? Наобещал небось с три короба? Не верь ни единому слову! Нам надо самим о себе позаботиться! Больше заботиться некому! Дурак, нам только бы вырваться отсюда, а потом дернем кто куда... Неужели у тебя места не найдется, куда можно нырнуть и отсидеться? Ф е л и к с. Значит, я хватаю Магистра? К у р д ю к о в. Ну? Ф е л и к с. А ты, значит, хватаешь Ротмистра? К у р д ю к о в. Ну! Остальные, они ничего не стоят! Ф е л и к с. Пошел вон! К у р д ю к о в. Да почему? Дурак! Не веришь мне! Ну, ты мне только пообещай: когда я Ротмистра схвачу, попридержи Ивана Давыдовича! Ф е л и к с. Вон пошел, я тебе говорю!
Курдюков рычит, совершенно как собака. Он подбегает к окну, быстро и внимательно оглядывает раму и, удовлетворившись, устремляется к двери. Распахнув ее, он оборачивается к Феликсу и громко шипит: «О себе подумай, Снегирев! Еще раз тебе говорю! О себе подумай!» Едва он скрывается, в спальню является Наташа и тоже плотно закрывает за собой дверь. Она подходит к тахте, садится рядом с Феликсом и озирается.
Н а т а ш а. Господи, как давно я здесь не была! А где же секретер? У тебя же тут секретерчик стоял... Ф е л и к с. Лизавете отдал. Почему это тебя волнует? Н а т а ш а. А что это ты такой колючий? Я ведь тебе ничего плохого не сделала. Ты ведь сам в эту историю въехал... Фу ты, какое злое лицо! Вчера ты на меня совсем не так смотрел... Страшно? Ф е л и к с. А чего мне бояться? Н а т а ш а. Ну, как сказать... Пока Курдюков жив... Ф е л и к с. Да не посмеете вы. Н а т а ш а. Сегодня не посмеем, а завтра... Ф е л и к с. И завтра не посмеете... Неужели никто из вас до сих пор не сообразил, что вам же хуже будет? Н а т а ш а. Слушай. Ты же не понимаешь. Они же совсем без ума от страха. Они сейчас от страха на все готовы, вот что тебе надо понять. Я вижу, ты что-то там задумал. Не зарывайся! Никому не верь, ни единому слову. И спиной ни к кому не поворачивайся – охнуть не успеешь! Я видела, как это делается... Ф е л и к с. Что это ты вдруг меня опять полюбила? Н а т а ш а. Сама не знаю. Я тебя сегодня словно впервые увидела. Я же думала: ну, мужичишка, ну, кобелек, на два вечерка сгодится... А ты вон какой у меня оказался! (Она совсем придвигается к нему, и прижимается, и гладит по лицу.) Мужчина... Хомо... Обними меня! Ну что ты сидишь, как чужой?.. Это же я... Вспомни, как ты говорил: фея, ведьма прекрасная... Я ведь проститься хочу... Я не знаю, что будет через час... Может быть, мы сейчас последний раз с тобой...
Феликс с усилием освобождается от ее руки и встает.
Ф е л и к с. Да что ты меня хоронишь? Перестань! Вот уж нашла время и место! Н а т а ш а (цепляясь за него). В последний разочек... Ф е л и к с. Никаких разочков... С ума сошла... Да перестань, в самом деле!
Он вырывается от нее окончательно и отбегает к окну, а она идет за ним, как сомнамбула, и бормочет, словно в бреду: «Ну почему? Почему?.. Это же я, вспомни меня... Трупик мой любимый, желанный!..»
Ф е л и к с. Слушай! Тебе же пятьсот лет! Побойся бога, старая женщина! Да мне теперь и подумать страшно!..
Она останавливается, будто он ударил ее кнутом.
Н а т а ш а. Болван. Труп вонючий. Евнух. Ф е л и к с (спохватившись). Господи, извини... Что это я, в самом деле... Но и так же тоже нельзя... Н а т а ш а. Дрянь. Идиот. Ты что – вообразил, что Магистр за тебя заступится? Да ему же одно только и нужно – баки тебе забить, чтобы ты завтра по милициям не побежал, чтобы время у нас осталось решить, как мы тебя будем кончать! Что он тебе наобещал? Какие золотые башни? Дурак ты стоеросовый, кастрат неживой! Тьфу!
Тут в спальню заглядывает Павел Павлович. В руке у него бутерброд, он с аппетитом прожевывает лакомый кусочек.
П а в е л П а в л о в и ч. Деточка, десять минут истекли! Я полагаю, вы уже закончили? Н а т а ш а (злобно). С ним закончишь! И не начинали даже! (Решительными точными движениями она оправляет на себе платье, волосы.) Хотела напоследок попользоваться, но он же ни на что не годен, Князь! Не понимаю, на что вы надеетесь...
И она стремительно выходит вон мимо посторонившегося Павла Павловича.
П а в е л П а в л о в и ч. Ай-яй-яй-яй-яй! Вы ее, кажется, обидели... Задели, кажется... Напрасно, напрасно. (Садится на тахту, откусывает от бутерброда.) Весьма опрометчиво. Могли бы заметить: у нас ко всем этим тонкостям, к нюансам этим относятся очень болезненно! Обратили внимание, как наш Басаврюк попытался Маркизу подставить вместо себя? Дескать, это она все наши секреты вам по женской слабости раскрыла? Ход простейший, но очень, очень эффективный! И если бы не трусость его, могло бы и пройти... Вполне могло бы! А что в основе? Маленькое недоразумение, случившееся лет этак семьдесят назад. Или сто, не помню. Отказала ему Маркиза. И не то чтобы он горел особенной страстью, но отказала! То есть никому никогда не отказывала, а ему отказала... Чувствуете? Вы не поверите, а вот семьдесят лет прошло, и еще сто семьдесят лет пройдет, а забыто не будет! А в общем-то мы все друг друга не слишком-то долюбливаем. Да и за что мне их любить? Вздорные существа, мелкие, бездарные... Этот Магистр наш, Иван Давыдович, высоко о себе мнит, а на самом деле – обыкновенный графоман от науки. Я же специально справки наводил у него в институте... Он там вечный предместкома. Вот вам и друг Менделеева! Диву даюсь, что в нем этот Ротмистр нашел? Откуда такое собачье преклонение? Да вы не стойте в углу, Феликс Александрович, присаживайтесь, поговорим...
Феликс садится на другой край тахты, закуривает и исподлобья наблюдает за Павлом Павловичем. А тот неторопливо извлекает из своего футляра очередную серебристую трубочку, капает из нее на последний кусочек бутерброда и, закативши глаза, отправляет кусочек в рот. Он наслаждается, причмокивает, подсасывает, покачивает головой как бы в экстазе.
П а в е л П а в л о в и ч (проглотив наконец, продолжает): Вот чего вы, смертные, понять не в состоянии – вкуса. Вкуса у вас нет! Иногда я стою в зале ресторана, и наблюдаю за вами, и думаю: «Боже мой! Да люди ли это? Мыслящие ли это существа?» Ведь вы же не едите, Феликс Александрович! Вы же просто в рот куски кидаете! Это же у вас какой-то механический процесс, словно грубый грязный кочегар огромной лопатой швыряет в топку бездарный уголь, коим только головы разбивать... Ужасающее зрелище, уверяю вас... Вот, между прочим, один аспект нашего бессмертия, который вам, конечно, на ум не приходит. Я не знаю, какого сорта бессмертие даровано Агасферу. По слухам, это желчный, сухопарый старик, совершеннейший аскет. Наше бессмертие – это бессмертие совсем иного сорта! Это бессмертие олимпийцев, упивающихся нектаром, это бессмертие вечно пирующих воинов Валгаллы!.. Эликсир – это что-то поразительное! Вы можете есть все что угодно, кроме распоследней тухлятины, которую есть вам просто не захочется. Вы можете пить любые напитки, кроме откровенных ядов, и в любых количествах... Никаких катаров, никаких гастритов, никаких заворотов кишок и прочих запоров... И при всем при этом ваша обонятельная и вкусовая система всегда в идеальном состоянии. Какие безграничные возможности для наслаждения! Какое необозримое поле для эксперимента! А вы ведь любите вкусненько поесть, Феликс Александрович! Не умеете – да. Но любите! Так что нам с вами будет хорошо. Я вас кое-чему научу, век благодарны будете... и не один век! Ф е л и к с. Да вы просто поэт бессмертия! Бессмертный бог гастрономии! П а в е л П а в л о в и ч. Оставьте этот яд. Он неуместен. По сути дела, я хотел помочь вам преодолеть вашу юношескую щепетильность. Я понимаю, что у вас нет и быть не может привычки распоряжаться чужой жизнью, это не в обычаях общества... А может быть, вы просто боитесь рисковать? Так ведь риска никакого нет. Пусть он сколько угодно кричит о шпагах – никаких шпаг ему не будет. Будут либо две пилюльки, либо два шприца – Магистр обожает шприцы! – либо «русская рулетка»... А тогда все упирается в чистую технику, в ловкость рук, этим буду заниматься я, как старший, и успех я вам гарантирую... Ф е л и к с. Слушайте, а зачем это вам? Какая вам от меня польза, вашество? Чокаться вам не с кем, что ли? Нектаром... П а в е л П а в л о в и ч. Польза-то как раз должна быть вам очевидна. Во-первых, мы уберем мозгляка. Это поганый тип, он у меня повара сманил, Жерарчика моего бесценного... Карточные долги я ему простил, пусть, но Жерара! Не могу я этого забыть, не хочу, и не просите... А потом... Равновесия у нас в компании нет, вот что главное. Я старше всех, а хожу на вторых ролях. Почему? А потому, что деревянный болван Ротмистр держит почему-то нашего алхимика за вождя. Да какой он вождь? Он пеленки еще мочил, когда я был хранителем трех Ключей... А теперь у него два Ключа, а у меня – один! Ф е л и к с. Понимаю вас. Однако же я не Ротмистр. П а в е л П а в л о в и ч. Э, батенька! Что значит – не Ротмистр? Физически крепкий человек, да еще с хорошо подвешенным языком, да еще писатель, то есть человек с воображением... Да мы бы с вами горы своротили вдвоем! Я бы вас с Маркизой помирил... что вам делить с Маркизой? И стало бы нас уже трое... Ф е л и к с. Благодарю за честь, вашество, но боюсь, что вынужден отказаться. П а в е л П а в л о в и ч. Почему, позвольте узнать? Ф е л и к с. Тошнит.
Пауза.
П а в е л П а в л о в и ч. Позвольте мне резюмировать ситуацию. С одной стороны, практическое бессмертие, озаренное наслаждениями, о которых я вынужденно упомянул лишь самым схематическим образом. А с другой стороны – скорая смерть, в течение ближайшей недели, я полагаю, причем, может быть, и мучительная. И вам угодно выбрать... Ф е л и к с. Я резюмирую ситуацию совсем не так... П а в е л П а в л о в и ч. Батенька, да в словах ли дело? Бессмертия вы жаждете или нет? Ф е л и к с. На ваших условиях? Конечно, нет. П а в е л П а в л о в и ч (воздевая руки). На наших условиях, видите ли! Да что же вы за человек, Феликс Александрович? Ужасаться прикажете вам? Склонить перед вами голову? Или развести руками? Ф е л и к с. Погодите, вашество. Я вам сейчас объясню... П а в е л П а в л о в и ч (не слушая). Я чудовищно стар, Феликс Александрович. Вы представить себе не можете, как я стар. Я сам иногда вдруг обнаруживаю, что целый век выпал из памяти... Скажем, времена до Брестской унии помню, и что было после Ужгородской – тоже помню, а что было между ними – как метлой вымело... Так вы можете представить, сколько я этих соискателей на своем веку повидал! Кого только среди них не было... Византийский логофет, богомил-еретик, монгольский сотник, ювелир из Кракова... И как же все они жаждали припасть к Источнику! Головы приносили и швыряли передо мной: «Я! Я вместо него!» Конечно, нравы теперь не те, головы не принято отсекать, но ведь и не требуется! Простое согласие от вас требуется, Феликс Александрович! Так нет! Отказывается! Да что же вы за человек такой? И ведь знаю, казалось бы, я вас! Не идеал, совсем не идеал! И выпить, и по женской части, и материальных потребностей, как говорится, не чужд... И вдруг такая твердокаменность! Не-ет, потрясли вы меня, Феликс Александрович. Просто в самое сердце поразили. Сначала вы не понимали ничего, потом стали понимать, но никак не могли поверить, а теперь и понимаете, и верите... Может быть, мученический венец принять хотите? Вздор, знаете вы, что не будет вам никакого венца... Фанатик? Нет! Мазохист? Тем более – нет. Значит – хомо новус. Снимаю перед вами шляпу и склоняю голову. А я-то, грешным делом, думал: человеков я знаю досконально... (Он смотрит на часы и поднимается. Произносит задумчиво.) Ну что ж, каждому свое. Пойдемте, Феликс Александрович, времени у нас больше не осталось.
В кабинете тем временем Наташа шарит по полкам с книгами, берет одну книгу за другой, прочитывает наугад несколько строчек и равнодушно роняет на пол. Из угла в угол по разбросанным книгам, по окуркам, по осколкам посуды снует Курдюков, руки его согнуты в локтях, пальцы ритмично движутся, словно он дирижирует невидимым оркестром. Клетчатый, стоя столбом у стены, внимательно следит за его эволюциями. А Иван Давыдович листает газетную подшивку. Светает. За окнами туман. Входят Павел Павлович и Феликс.
И в а н Д а в ы д о в и ч. Наконец-то! (Отбрасывает подшивку.) Итак, Феликс Александрович, ваше решение! П а в е л П а в л о в и ч. Одну минуточку, Магистр. Я хочу сделать маленькое уточнение. Я тут поразмыслил и пришел к выводу, что Ротмистр прав. Отныне я за нашего дорогого Басаврюка. Как говорится, старый друг лучше новых двух. К у р д ю к о в. Благодетель! Н а т а ш а. Я тоже. К дьяволу чистоплюев. К у р д ю к о в. Благодетельница! (Торжествующе показывает Феликсу язык.) И в а н Д а в ы д о в и ч (после паузы). Вот как? Н-ну что ж... А я, напротив, самым категорическим образом поддерживаю кандидатуру Феликса Александровича. И я берусь доказать любому, что он, несомненно, полезен для нашего сообщества.
Он бросает короткий взгляд на Клетчатого, и тот, сделав отчетливый шаг вперед, становится рядом с ним.
К л е т ч а т ы й. Я тоже за господина писателя. Раз другие меняют, то и я меняю. К у р д ю к о в (плачет). За что? Я же всегда за... Я же свой... А он сам не хочет... П а в е л П а в л о в и ч. Во-первых, он сам не хочет. А во-вторых, Магистр, вы все-таки оказались в меньшинстве... И в а н Д а в ы д о в и ч. Но я и не предлагаю принимать какие-нибудь необратимые решения прямо сейчас! Уже светло, сделать сегодня мы все равно ничего не сможем, мы не готовы, надо все хорошенько продумать... Господа! Мы расходимся. О времени и месте следующей встречи я каждого извещу во благовремении... К у р д ю к о в (хрипит). Он же в милицию... Сию же минуту!..
Иван Давыдович обращает пристальный взор на Феликса.
И в а н Д а в ы д о в и ч. Милостивый государь! Вам были сделаны весьма лестные предложения, не забывайте об этом. Обдумайте их в спокойной обстановке. И помните, пожалуйста, что длинный язык может лишь принести вам и вашим близким непоправимые беды! Ф е л и к с. Иван Давыдович! Да перестаньте же вы мне угрожать. Ну как можно быть таким самовлюбленным дураком? Неужели же не понятно, что я скорее откушу себе этот мой длинный язык, чем хоть кому-нибудь раскрою такую тайну? Неужели же вы не способны понять, какое это счастье для всего человечества – что у Источника бессмертия собралась именно ваша компания, компания бездарей, ленивых, бездарных, похотливых ослов... И в а н Д а в ы д о в и ч. Милостивый государь! Ф е л и к с. Какое это безмерное счастье! Помыслить ведь страшно, что будет, если тайна раскроется и к Источнику прорвется хоть один настоящий, неукротимый, энергичный, сильный негодяй!.. Что может быть страшнее! Бессмертный пожиратель бутербродов – да это же огромная удача для планеты! Бессмертный энергичный властолюбец – вот это уже беда, вот это уже страшно, это катастрофа... Поэтому спите спокойно, динозавры вы мои дорогие! Под пытками не выдам я вашей тайны...
Они уходят, они бегут. Первой выскакивает Наталья Петровна, на ходу запихивая в сумочку свои косметические цацки. Величественно удаляется, постукивая зонтиком-тростью, Павел Павлович, сохраняя ироническое выражение на лице. Трусливо озираясь, удирает Курдюков, теряя и подхватывая больничные тапочки. Клетчатый не совсем улавливает пафос происходящего, он просто дожидается Ивана Давыдовича. Иван же Давыдович слушает дольше всех, но в конце концов и он не выдерживает.
Ф е л и к с (им вслед). Под самыми страшными пытками не выдам! Умру за вас, как последняя собака! Курдюкова буду беречь как зеницу ока, за ручку его буду через улицу переводить... И запомните: ежели что, не дай бог, случится, я в вашем полном распоряжении! Считайте, что теперь есть у вас ангел-хранитель на этой Земле!
Феликс стоит у окна и рассматривает всю компанию с высоты седьмого этажа. Курдюкова запихивают в кремовые «Жигули», Клетчатый за ним, Наташа садится за руль, Иван Давыдович – с нею рядом. Павел Павлович приветствует отъезжающую машину, приподняв шляпу, а затем неспешно, постукивая тростью-зонтиком, уходит из поля зрения. И тогда Феликс оборачивается и оглядывает кабинет. Вся мебель сдвинута и перекошена. На полу раздавленные окурки, измятые книги, черные пятна кофе, растоптанные телефонные аппараты, осколки фарфора. На столах, на листах рукописи валяются огрызки и объедки, тарелки с остатками еды, грязная сковородка. Дом уже проснулся. Слышно, как гудит лифт, грохают где-то двери, раздаются шаги, голоса. И тут дверь в кабинет растворяется, и на пороге появляется дочь Феликса Лиза с двумя карапузами-близнецами. – Почему у тебя дверь... – начинает она и ахает. – Что такое? Что у тебя тут было? Ф е л и к с. Пиршество бессмертных. Л и з а. Какой ужас... И телефоны разбили! То-то же я не могла тебе дозвониться... В садике сегодня карантин, и я привела к тебе... Ф е л и к с. Давай их сюда, этих разбойников. Идите сюда скорее, ко мне. Сейчас мы с вами все тут приберем. Правильно, Фома? Ф о м а. Правильно. Ф е л и к с. Правильно, Антон? А н т о н. Неправильно. Бегать хочу.
|
|
© "Русская фантастика", 1998-2003
© Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий, текст, 1983 © Дмитрий Ватолин, дизайн, 1998-2000 © Алексей Андреев, графика, 2001 |
Редактор: Владимир Борисов
Верстка: Владимир Борисов Корректор: Владимир Дьяконов |