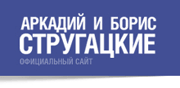|
ГЛАВА 6
Лето началось жарой необыкновенной. Асфальт подтаивал уже с утра. В мутном знойном небе плавал назойливый тополиный пух – белые войлоки его жаркий ветер мотал по мостовым. В пригородных зонах горели торфяники. Приказ был отдан – не пускать никого в леса, особенно на автомобилях. На работе потные осатанелые люди страстно спорили, что правильно: держать все окна настежь или, наоборот, закрыть их плотно и еще занавесить. Белыми знойными ночами из подвалов поднимались сонмища комаров-мутантов – бесшумных и кровожадных, как пираньи. Тепловые удары стали обычным делом, словно многомиллионный город перенесло вдруг в пустыню Бетпак-Дала. Соседка грохнулась в обморок прямо на кухне – «сомлела». Станислав перепугался насмерть, но все обошлось: к вечеру прискакал ее новый хахаль – седой плотный человек с вкрадчивой повадкой квартирного вора, – принес бутыль излюбленного портвейна «Три семерки», и до глубокой ночи доносилось от них тихое, сдавленное пение: «Хас-Булат удалой» доносился, а также «Как день хорош, как солнца луч приятен...» и «Каким ты был, таким остался...».
Утром Станислав, невыспавшийся, потный и злой, был немедленно по приходу зван к Ежеватову.
– Садись писать отчет по АНТИТЬЮРИНГу, – сказал без всяких предисловий товарищ начальник, тоже потный, тоже злой и, видимо, невыспавшийся. – В темпе. Завтра чтобы был.
– Зачем это вдруг?
– А затем, что Академик наш вчера обувку поменял, – сказал Ежеватов с такой кривой ухмылкой, что Станислав сразу же понял, о чем речь, хотя эвфемизм ежеватовский был ему вовсе не знаком.
– То есть? – спросил он на всякий случай.
– То есть – коньки отбросил. Выпрямился. Дуба врезал... Наконец-то мы дождались этого печального события.
– Ясно, – сказал Станислав, не испытывая никаких эмоций. – Вообще-то он, по слухам, был – не очень?
– Он был очень даже «не очень». Если всех, кого он заложил, раком поставить, то они протянутся отсюда аж до Большого Дома. Но с ним можно было работать, понимаешь, в чем дело... У него были минуты, и вот тут его надо было ловить... Он почти уж согласился тебя с Зинаидой отправить в Беркли на стажировку. И АНТИТЬЮРИНГ наш ему нравился. А теперь будет на его месте мудила Всехсвятский: АНТИТЬЮРИНГ он постарается закрыть на хер, а в Беркли поедет, соответственно, не Красногоров из ВННИТЭКа, а какой-нибудь Серожопов из НИИСТО. Понял расклад?
Станислав расклад понял, но остался к нему вполне равнодушен. АНТИТЬЮРИНГ ему уже малость поднадоел, а про Беркли услышал он сейчас впервые, а потому горечь несбывшегося (самая горькая штука на свете) не могла зацепить его своими ядовитыми крючьями по-настоящему.
Он пошел писать отчет и писал его весь день, без обеда, только чаю попил с сухарями. В пять часов все из лаборатории ушли, стало тихо и даже, кажется, прохладно. В шесть заглянул перед уходом Ежеватов, полистал уже готовые страницы, рассказал байку из серии «Тук-тук. Кто там?..» («Тук-тук. – Кто там? – КГБ. – Что надо? – Поговорить. – А сколько вас там? – Двое. – Вот и поговорите!»), сообщил, что Академик завещал себя отпевать в Никольском соборе («В обкоме все на рогах стоят, яйца на себе кусают...»), и ушел, хрустя последним сухарем. Станислав остался и дописал черновик до конца. Было уже – половина восьмого.
Он подъехал к дому около восьми. Аккуратно подрулил на свое место, у фонаря (чтобы вору неудобно было взламывать хотя бы правую дверцу), выключил двигатель и посидел немного за рулем, глядя перед собой вдоль сизого от жары проспекта.
Ветер валял по мостовой белые войлоки тополиного пуха. Бухала баба на стройке суперотеля. Курсанты ВМА тощими зелеными петушками выскакивали из проходной. Небо было мутное, белесо-голубое. Было лето. Он вылез из машины и сейчас же, не успев одернуть себя, поглядел вверх на свои окна. Окна, естественно, были закрыты. Он отвел глаза и принялся старательно запирать машину: защелка правой дверцы... дворники – снять... наружное зеркальце – снять. Левая дверца...
В парадной он почти столкнулся с какой-то женщиной и отступил, давая ей дорогу. У нее было смуглое лицо и спокойные серые глаза с черными ресницами.
Она сказала:
– Здравствуй, Слава, – и только тогда он узнал ее. Это была Пола. Сорокалетняя Пола.
– Здравствуй, – сказал он.
Они стояли в парадной и глядели друг на друга. Молча. Долго. Наверное, целую минуту. Потом толпа мелких детишек высыпалась из дверей и, гомоня, стала пробираться между ними, и рядом с ними, и огибая их. Пола сказала что-то – губы ее шевельнулись, и на мгновение блеснули зубы – белые и влажные.
– Что? – спросил он поспешно.
– Я говорю: имею удовольствие читать тебя чуть ли не каждый день... – Голос у нее был прежний, чуть глуховатый, бархатный, голос покоя и свободы.
– Не понимаю, о чем ты...
– Ну, в «Смене» же... «Праздничные записки»...
– А! – до него дошло наконец. – Нет. Это не я.
– Как не ты? Эс Красногоров. «Праздничные записки»...
– Нет. Это однофамилец какой-то. Ко мне с ним все знакомые пристают, а я – ни сном ни духом...
– Жалко.
Было видно, что она и в самом деле огорчена. Это была та самая Пола: если ее что-нибудь огорчало – она огорчалась, а если ее что-нибудь радовало, каждому было ясно, что она обрадована. Золото не тускнеет. Хорошее всегда хорошо.
Они опять помолчали, а потом Пола сказала:
– Слава, я все знаю. Я только не знала, чем я могу...
– Не надо, – сказал он поспешно.
– Удивительно все-таки, – сказала она сейчас же. – Живем в одном доме, а видимся раз в десять лет...
– И даже – на одной лестнице.
– Да, вот именно – на одной лестнице... А ты где работаешь теперь?
– И видимся не раз в десять лет, а раз – в пятнадцать... Даже раз в семнадцать... Кошмар!.. А работаю я все там же, во ВНИИТЭКе.
– Математик?
– Да. В каком-то смысле.
– Подтяни мою Саньку по математике. Ей осенью поступать.
– Как – поступать?! Саньке – поступать?! Ты что – издеваешься надо мной? Сколько же нам лет, Пола? Старуха!
Она тоже пошутила. Тоже что-то насчет старости, насчет внуков, насчет седин и лишних килограммов. Но думала она, конечно, о другом. В глазах ее плавилась жалость. И еще что-то в них было – что-то неуместное, да и ненужное. Надо было удирать.
– Слушай, извини! – сказал он. – Мне вот-вот должны из Москвы звонить... Я побегу?
– Беги, – сказала она.
А что она еще могла сказать? Ему. Сегодня. Здесь.
Шагая через три ступеньки, он поднялся к себе на третий этаж. Не сразу заправил ключ в замочную скважину – нервы все-таки расходились, движения сделались неверными, словно он только что таскал ящики или боролся с кем-то непосильно тяжелым...
Войдя к себе в комнату, в прокуренную жару и духоту, он прежде всего подошел к правому окну, распахнул его и, высунувшись, поглядел вниз. «Запорож» был на месте – желтая крыша лаково отсвечивала, и топорщились дурацкие уши. Ветер все гонял тополиные покрывала.
– Устал, – сказал он. – Сегодня – устал. Слишком жарко. Впрочем, я люблю жару. У меня, как известно, терморегуляция – идеальная.
Он наконец повернул голову и посмотрел ей в глаза. Она, как всегда, улыбалась. И как всегда, он почувствовал, что падает. И как всегда, не упал.
– Полу сейчас встретил, – сказал он. – Почти не переменилась. Но я узнал ее не сразу... Интересно почему?
Ничего интересного, подумал он. Это все уже прошло. Давно.
– Я здорово был в нее влюблен, – признался он. – Я тебе не говорил этого никогда, потому что... потому что... Зачем? Я бы не хотел, чтобы ты когда-нибудь сказала мне про кого-нибудь, что, мол, я была в него влюблена в далеком детстве...
Он замолчал: он вдруг услышал свой голос. Это был голос одинокого истеричного мужчины в большой, светлой, пустой, неубранной и прокуренной комнате. Он сбросил куртку, повесил ее на стул и полез в холодильник.
Потом он сел за стол, спиной к портрету, и принялся без всякой охоты есть. Наполовину опустошенная банка горбуши «в собственном поту»... подсохший вчерашний батон... выдохшаяся минералка...
Он старался ни о чем не думать. О работе думать – тошнило, а думать о том, что налетало из прошлого и беспорядочно крутилось в голове, было нельзя. Он обрадовался, когда телефон зазвонил и соседка ласково-трусливым голосом, какой у нее всегда появлялся после хахаля, позвала его из коридора.
– Здравствуй, – сказал Виконт, по обыкновению официально. – Где ты шляешься так долго, я тебе в пятый раз звоню.
– Только что пришел. Работал. Штевкаю вот сейчас...
– Ты повестку получил?
– Какую еще повестку?
– Ладно, я сейчас к тебе приду, – сказал Виконт недовольно.
– Какую повестку?! – рявкнул он, но в трубке уже шли короткие гудки.
Тогда он повернулся к соседке.
– Повестку мне приносили? – спросил он таким тоном, что та даже ответить не решилась – только ткнула когтистым пальцем в сторону сундука, где стопочкой лежали газеты.
Он схватил синенькую бумажку. Это действительно была повестка. Из УКГБ, Литейный, 4. Большой Дом. Явиться... завтра... в 10 утра... подъезд номер пять... в качестве свидетеля... следователь... что-то вроде Хроменковского... или Хромоножского...
– Кто принес? – спросил он отрывисто.
– Мужчина какой-то. Немолодой уже. В бобочке и в соломенной шляпе. Вежливый.
– Что сказал?
– Вас спросил, а потом велел передать.
– Вы что – не догадались спросить, в чем дело?
– Да спрашивала я! А он и сам не знает! Придет, говорит, там, говорит, ему все, говорит, расскажут...
Достали, подумал он. Ладно. Хорошо. Ну что ж, ничего неожиданного не произошло. Достали. Теперь будем жить так... Мысли его метались, хотя ничего такого уж неожиданного и в самом деле не произошло.
Прежде всего, еще даже не сев, Виконт изучил повестку.
– «Красногорский»... – сказал он уверенно. – Не «Красночерный» же! Значит, Красногорский. Поздравляю. Почти однофамилец. А у меня – какой-то Полещук... – Он уселся наконец на свое место, в углу дивана. – Ну, что скажешь, свидетель?
– Надо полагать, по делу Семки.
– Согласен.
– Надо полагать, будут спрашивать про эту его статью.
– Н-ну-с?
– Не читал. В первый раз слышу.
– Ну? Так уж и в первый? Что-то с памятью у вас стало! Вспомните как следует, потрудитесь... Зима, метель, и в пышных хлопьях при сильном ветре снег валит... Вспомнили? Пришел подсудимый, принес мокрый портфель...
– Не помню. Не было этого... А что, это действительно зимой было? Начисто не помню, ей-богу, ваше сиятельство.
– Я тебе не ваше сиятельство, антисоветская твоя морда! Я тебе следователь по особо важным делам полковник Красногорский!
– Ну уж нет. Дудочки! Не станет он так разговаривать. Не те времена.
– Ладно, – согласился Виконт, набивая трубку. – Не те, так не те... Но вот подсудимый Мирлин показывает...
– Не подсудимый, а подследственный.
– Подследственные на воле ходят! – гаркнул Виконт, стекленея глазами. – А если он у нас здесь сидит, значит, всё – подсудимый!
– Ну-ну! Опять в средние века заехал...
Некоторое время они развлекались таким вот образом, меняясь ролями и поминутно заезжая в средние века, потому что представления оба не имели ни о методике допроса, ни – главное – о том, что следователю Красногорскому-Полещуку известно по сути обсуждаемого дела.
Семен незадолго до ареста, пока его еще только таскали на допросы, рассказывал, что поставил там себя так: о себе – все что угодно, пожалуйста, но о других – нет, нет и нет. «Имен не называю». Такая позиция выглядела вполне убедительно, хотя законное сомнение появлялось: а способен ли человек, раз начавши говорить, остановиться в нужный момент и на нужном месте? Как узнать, как успеть сообразить, что ты уже в запретной области и что именно на этот вот – невиннейший! – вопрос отвечать ни в коем случае нельзя? Ведь на их стороне – методики, десятилетия опыта, отшлифованные до окончательно блеска приемы. Это – машина, мощная надежно отлаженная программа, не знающая ни сбоев, ни усталости, ни отчаяния, ни восторгов. Это только так говорится, что машина не может быть умнее человека. Это только ангажированные придурки полагают, будто машина не способна победить человека в интеллектуальном сражении. На самом-то деле она давным-давно его уже победила. Да, есть в мире несколько сотен гроссмейстеров, которые пока еще с шуточками и прибауточками бьют любую шахматную программу, но все остальные миллионы шахматистов, всё, по сути, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, уже у машины выиграть не способны, и у них есть лишь один способ уйти от поражения: не садиться играть вообще...
Да, но здесь речь идет о такой игре, когда желания твои никого не интересуют. «Здесь Родос – здесь прыгай», садись и играй. И остается лишь одна возможность, приличествующая человеку: объявить свои правила игры. Открыто и твердо: ненавижу вас; все, что вы делали когда-либо, делаете сейчас и намерены делать в будущем, – все это гнусь, грязь, погань и нравственная слизь. Я во всем этом участвовать не намерен. Ни в какой мере. Ни в какой форме. Ибо ЛЮБОЕ сотрудничество с вами безнравственно и губит душу. Прошу занести это мое заявление в протокол. От дальнейшего разговора отказываюсь. Больше не скажу ни слова.
Прекрасно. Но тогда тотчас же начинается:
– Надо ли понимать вас так, что вы относитесь к «органам» враждебно?
– Комментариев не будет.
– Надо ли понимать так, что вы с одобрением относитесь к антисоветской деятельности вашего дружка-приятеля?
– Нет комментариев.
– Надо ли понимать вас так, что вы с одобрением относитесь к антисоветской деятельности вообще?
– Нет комментариев.
– Надо ли понимать вас так, что, даже обнаружив признаки диверсионно-шпионской деятельности кого-либо из ваших знакомых, вы не исполните своего гражданского долга?
Молчание.
– А не пора ли вам, в таком случае, сделать выбор: на Восток вам или на Запад? Здесь такие, как вы, ну просто никому не нужны. Что, согласитесь, вполне естественно.
Вот тут – контрапункт всей этой ситуации, все мыслимые варианты скручиваются в невыносимый жгут, и единственный честный и единственно верный путь кончается на краю пропасти. Это – объявление войны, безнадежной войны маленького одинокого человека с Государственной Машиной. Войну эту нельзя выиграть, если ты дорожишь своей свободой и своей родиной, если готов жить только на свободе и только на родине.
Все же остальные варианты – компромиссы. Более или менее ловкие. Более или менее грязные. Более или менее стыдные. И все – бесчестные. Более или менее.
– Нет, – сказал в конце концов Станислав. – Я так не могу – в лоб. Я все-таки попытаюсь рулить. Может быть, и удастся вырулить без особых потерь. Во всяком случае, имен я им не назову.
– При прочих равных.
– Да ни при каких. Это – предел. «Его же не перейдеши». Так, кажется?
– Кажется, так.
– И вообще, зря мы с тобой друг друга запугиваем. Не знают они ничего про нас и знать не могут. Нельзя же серьезно предполагать, что здесь у меня все прослушивается! Что я им – Солженицын? А Семка ничего им не скажет, так что ничего они не знают, и надо именно из этого исходить. Согласен?
– Не играет значения, – сказал Виконт и, перегнувшись через спинку дивана, снял со стены гитару.
– Что – не играет?
– Согласен я с тобой или нет. Не играет значения. И не имеет роли... – Он взял пару дребезжащих аккордов и начал проникновенно:
Надоело говорить, и спорить,
И любить усталые глаза...
И Станиславу ничего уже более не оставалось, кроме как подхватить:
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина поднимала паруса.
Они спели «Бригантину» – истово и с чувством, как добрые граждане какой-нибудь благословенной Гармонарии исполняют свой гимн в День Благорастворения Воздухов, – потом, без перехода, оторвали в бешеном темпе «Зырит урка: фрайер на майданчике...», а следом, по какому-то наитию, словно призывая на помощь себе милое и вечное прошлое, собственного сочинения «Я не поэт и не аскет...» – все двадцать три куплета с припевами и с присвистом. Затем Виконт отложил гитару и сказал:
– Чаем бы, что ли, угостил, раз водки не даешь... – и добавил задумчиво: – Я у тебя давеча шпроты видел. Люблю шпроты перед сном, знаешь ли... И тебе рекомендую.
Станислав посмотрел на него, ощущая приступ немотивированного детского оптимизма. Все будет путем, подумал он. Все уладится. Что мы, в самом деле... Но вслух он сказал только мамино любимое:
– Бабушка, дай водицы испить, а то так есть хочется, что даже переночевать негде!..
Ночь он спал плохо. Почти совсем не спал.
Вдруг вспомнилось ему, что в свое время он дал почитать Семке серию «Позавчера». Семка, засранец, распечатку эту так ему, конечно, и не вернул, сейчас она у них, и они, наверное, уже установили, на каком именно АЦПУ распечатка была сделана. И с распечаткой сахаровских «Размышлений о прогрессе...» – та же история...
Он поднялся, сел у окна и курил до самого утра, до восхода солнца, вновь и вновь разыгрывая и проигрывая завтрашний диалог со следователем. У Виконта свет тоже горел аж до шести, когда, сотрясая город, с железным храпом и рыком поволоклись один за другим на стройку чудовищные грузовики с бетонными блоками на прицепах.
[Предыдущая часть] Оглавление [Следующая часть]
|