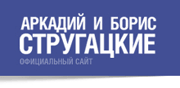|
Часть третья
ЗАПИСКИ ПРАГМАТИКА
Происхождение этих записок таково.
Их принес длинный угловатый юноша с бледным лицом, покрытым одновременно и милым светлым пушком, и довольно противными прыщами. Он терпеливо, как выяснилось, ждал возвращения Станислава домой аж с трех часов и до одиннадцати вечера. Кронид советовал ему не ждать – юноша советам не внял. Кронид предлагал ему оставить свои координаты – он и от этого предложения уклонился. Он должен был передать нечто господину Красногорову из рук в руки. «Вы можете оставить это мне, я выдам расписку». – «Спасибо, нет. Из рук в руки». Так и проторчал до одиннадцати в прихожей, превращенной в приемную. (Станислав тогда еще оставался жить в прежней квартире – не совершил широко распространенной среди младополитиков глупости, не выбил себе достойную квартиру и даже не организовал для себя роскошного офиса. Только Мартьяновну, соседку, отселил на Комендантский аэродром с улучшением жилищных условий.)
Станислав вернулся усталый, злой, больной от человеческой глупости и поганости. Кронид поднялся ему навстречу, выслушал распоряжения на ночь, передал список важнейших звонков и только потом кивнул на упорного юнца, который тоже уже стоял, правда, независимо прислонившись плечом к стенке, и по-прежнему терпеливо ждал, когда на него обратят высокое внимание.
– Слушаю вас внимательно, – сказал ему Станислав, выжимая из себя улыбку номер шесть. Он еще надеялся, что разговор можно будет закончить прямо здесь, в приемной, в хорошем деловом темпе.
– Моя фамилия Красногорский, – сказал юноша тихо. – Я – Ваня.
Станислав узнал его секундой раньше.
– Пошли, – сказал он кратко, и они прошли в кабинет.
– Садись, – сказал Станислав и сам повалился в кресло, ощущая себя некоей надувной лодкой, из которой вдруг вынули вентиль. – Извини, что не узнал тебя сразу. Все-таки больше года прошло, так? Ну, как ты? Могу тебе чем-нибудь быть полезен? Буду рад.
– Я принес вам записки отца, – сказал Ваня Красногорский тихо, и Станислав в который раз поразился, как капризно-прихотлива Природа в исполнении собственных законов: Красногорский-младший был похож на майора Красногорского гораздо меньше, чем, скажем, на Сеню Мирлина – тот, по крайней мере, тоже был длинный, тощий и угловатый.
Станислав принял грязноватую папку, на обложке которой написано было красными печатными буквами ИВАНУ, и развязал тесемки. «Ты читаешь эти записки, и это означает, что меня уже нет более в живых. Меня убили...» – прочитал он и закрыл папку.
Ваня уже стоял, готовый уходить.
– Подожди, куда же ты? – сказал Станислав, делая над собой очередное усилие. – Неужели ты не хочешь поговорить со мной?
– Очень хочу, – сказал Ваня. – И у меня – просьба к вам. Но только после того, как вы прочтете.
– Хорошо, – сказал Станислав. – Договорились. Я прочту.
– Телефон у меня тот же, что и раньше...
– Понял. А где ты был все это время? Я дважды тебя искал...
– Уезжал, – коротко ответил Ваня, и Станислав не захотел настаивать.
Он прочел папку в ту же ночь.
ГЛАВА 1
«...Ты читаешь эти записки, и это означает, что меня уже нет более в живых.
Меня убили.
Какая бы причина смерти ни была сообщена тебе, знай: меня убили – расчетливо, профессионально, безукоризненно чисто.
Не верь, что я скоропостижно скончался в автобусе в час пик от сердечного приступа. У меня идеальное здоровье. (У тебя, кстати, тоже.) Просто кто-то подобрался ко мне в толпе и воткнул (прямо сквозь пиджак) иглу с каким-нибудь (не знаю нынешних препаратов) кардиолеталем-А или еще с какой-нибудь подобной гадостью.
Не верь, что я был невнимателен при переходе улицы. С некоторых пор нигде я не бываю так внимателен, как при переходе улицы, миновании темных (почему-то) подъездов и на перронах вокзалов, метро и пригородных электричек.
Если я пал жертвой пьяных хулиганов, знай: мне хорошо известны их имена. Они не хулиганы, они редко пьют и никогда не напиваются. Это либо Александр Степанович Гуриков (Сука Сашка), либо Марлен Иванович Косоручкин (он же Марлеха), либо, может быть, Серега Жучок (Сергей Сергеевич Жукованов).
Не верь никому, и никаким бумагам, и никаким фильмам и фотографиям, никаким магнитофонным кассетам и никаким видеозаписям. Верь тому, что я здесь пишу для тебя, и помни, что эти сведения сделают тебя ни для кого не досягаемым (точнее: ВОЗМОЖНО, сделают; СПОСОБНЫ сделать – в принципе, при выполнении каких-то неизвестных никому условий), но – только в том случае, если останутся только лишь ТВОИМ достоянием.
Это знание убьет тебя быстрее любого яда, если ты поделишься им еще хоть с кем-нибудь. Эта тайна – на одного. Двое здесь – это уже много, слишком много, непоправимо много.
Более всего опасайся тех людей, которых ты любишь.
Бойся матери. Она глупа и глупо благородна. (Никогда не доверяйся благородным – они сдадут тебя, наслаждаясь своим бескорыстием.)
Бойся Алешки – он алкоголик. (Никогда не доверяй алкоголикам НИЧЕГО.)
Бойся своей Катюхи. Она вьет из тебя веревки, тебе это нравится, я знаю, но она гораздо сильнее тебя и хорошо это сознает. (Я вообще не советую тебе доверяться женщинам: мужчина не способен понять никакую женщину до конца, это другой вид животного царства, а доверяться можно только тому, кого знаешь до самого донышка.)
Я хочу, чтобы все, что я имею, досталось бы тебе и только тебе. Ты доведешь мою затею до конца. Я не успел – раз ты читаешь эти записки.
Прочти, разберись и ровно девять месяцев не предпринимай ничего, просто живи, как жил до сих пор, и думай. Жди. Думай. Готовься принять решение. ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ! Решение должно вызреть в тебе, как ребенок вызревает в женщине. Потом поступишь, как сочтешь нужным.
Человек, который передаст тебе этот пакет, не знает ничего. Он не знает даже, что ты мой сын. Он кристально честен, по-старинному благороден и, следовательно, недалек. Однако лучше все-таки никогда более тебе с ним не встречаться.
Конечно, они могут его вычислить... Нет, не могут. Вернее, если они сумеют его вычислить, ты просто никогда ничего не узнаешь об этих записках...
ЭЙ ТЫ, ГУНЯВЫЙ! ЕСЛИ ТЫ ВСЕ-ТАКИ ДОБРАЛСЯ ДО МЕНЯ И ЧИТАЕШЬ СЕЙЧАС ЭТИ СТРОЧКИ – БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТ! Я СТАНУ ПРИХОДИТЬ К ТЕБЕ ПО НОЧАМ ПИТЬ ТВОЙ ГОРЬКИЙ МОЗГ И КУСАТЬ ТВОЕ ПОГАНОЕ СЕРДЦЕ.
Я раскрыл эту тайну, раскопал ее, разгадал, выдернул из мутного небытия, но я до сего дня не научился ею пользоваться. Я знаю: эта тайна несет в себе зародыш гигантских возможностей. Сила, даже мощь, и великая власть, и возможность перекраивать не тобою скроенное – все это ощущается при первом даже прикосновении к ней. Но – КАК? Не знаю.
Это что-то вроде пресловутого термояда из твоей любимой физики. Все о нем всё знают, на бумаге всё хорошо и даже отлично, галдёж стоит уже полвека, все гомонят, все при деле, но никто ничего так и не добился. СИЛА. МОЩЬ. ВЛАСТЬ НАД МИРОМ. Но – КАК?
Именно из-за таких аналогий я чувствую себя ученым-теоретиком, сделавшим «на кончике пера» великое открытие, из которого кто-нибудь когда-нибудь извлечет много пользы, но – не сегодня и не завтра даже. А когда не будет на свете ни меня, ни тебя, никого.
По понятным причинам я не имею возможности как следует продокументировать свое ОТКРЫТИЕ. Многое тебе придется принимать на веру. Но именно поэтому я постараюсь быть подробным, в надежде, что из подробностей моих ты сумеешь извлечь некую зацепочку, крючочек, петельку, чтобы вытянуть в свою лодку рыбину, которую я углядел в глубинах вод, но так и не сумел схватить за жабры.
(Немедленно ловлю себя на красотах слога. Меня всегда упрекали за эту склонность. Цитаты из моих отчетов приводились в качестве отрицательного примера и вызывали злорадный смех коллег-органавтов. Однако я намерен писать так, как мне пишется. Всю жизнь добиваюсь я возможности делать то, что хочется МНЕ, и так, как нравится МНЕ. Сейчас я этой возможности наконец добился. Мне не грозят ни выговор с занесением, ни вызов на ковер с последующей клизмой, ни увольнение в отставку. Мне грозит разве что – преждевременная, причем насильственная, смерть, но литературная манера моя, к сожалению, не способна ни отдалить ее, ни приблизить, вот в чем штука.)
Ты прекрасно знаешь этого человека. Его портрет много лет стоит на моем столе рядом с фотографией твоей мамы. Сейчас чуть ли не через день ты можешь видеть его на экране телевизора или прочитать о нем в газете. Он стал притчей во языцех, и я прекрасно запомнил тот разговор, который произошел у нас с тобой в прошлом году (осенью). Ты добивался у меня: как может быть моим другом и благодетелем человек таких позорных убеждений, а я отвечал, что убеждения приходят и уходят, а человек при этом остается. Мы поссорились с тобою, ты обиделся и более со мной о нем не говорил (хотя я прекрасно слышал все, что ты говорил о нем своим дружкам по телефону, – признайся, ты ХОТЕЛ, чтобы я слышал эти твои разговоры?). Что ж, прочитав мои записки, ты, я полагаю, поймешь многое, если не все.
Но началось мое исследование не с него.
На протяжении нескольких лет я работал в отделе, точнее – в особой группе, где занимались ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ. Телепаты, ясновидцы, зомби, телекинетики, знахари, микрокиллеры, лозоходцы, вурдалаки, вещуны, колдуньи – все это были наши клиенты. Полтергейст, НЛО, некродинамика, палеоастронавтика... Многое я сейчас уже и позабыл, номенклатура у нас насчитывала более восьмидесяти позиций. И все было – СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. Деятельность наша засекречена была так, что мы докладывали непосредственно Самому, и даже ни один из его замов ничего не должен был знать.
Я давно уже заметил, что, чем больше глупости в делах, тем они секретнее. В наших же делах было столько глупостей, что ни для чего другого просто не оставалось места. «Глупости сплошные!» – докладывали мы по начальству. «Давайте-давайте! Работайте, Бога не забывайте!» – «Да глупости же!» – «Американцы, по-вашему, что, глупее вас, что ли? Однако же копают что твой бульдозер, и ничего, все довольны. Денег вам подкинуть? Тогда так и скажите...»
Девяносто процентов информации у нас было – просто лажа. Девять и девяносто девять сотых – выводило нас на жулье, иногда очень толковое и даже – блестящее. Но были, были какие-то сотые процента, которые вызывали-таки недоумение, заставляли задуматься и побуждали к дальнейшим действиям.
После третьего или четвертого года я сделал для себя два вывода, достойных упоминания.
Во-первых, совершенно конкретный и прагматически полезный вывод о том, что никакой телепатии практически не существует. Читать мысли невозможно. Угадывать, «вычислять», «подглядывать» даже – да, но не читать. Этот вывод очень приободрил меня и облегчил мое существование в том мире, который называется «место работы». (Никогда и никому я об этом своем выводе не говорил. Наоборот, всегда говорил прямо противоположное. И начальство охотно давало деньги под эту противоположную точку зрения. На свете множество дураков, воображающих, что это было бы недурно – научиться читать чужие мысли. Может быть, потом я расскажу тебе одну историю – как я уцелел потому лишь, что дурак сцепился с жуликом и оба проиграли – сожрали друг друга, как те волки из детского стишка.)
Во-вторых, я понял, что паранормальные исследования требуют совершенно специфической методики. Здесь не нужны ни барометры, ни ареометры, ни вольтметры, ни осциллографы. Не нужны физики, химики и даже медики. А нужны – профессиональные фокусники, для разоблачения ловкачей и жуликов. И нужны тихие, невидимые свидетели, по сути – агенты скрытого наблюдения, работающие в режиме сопереживания. Все паранормалики – ИСТИННЫЕ паранормалики, я имею в виду – способны демонстрировать результативное поведение ТОЛЬКО в условиях личного покоя, душевного уюта, вообще – ПЕРСОНАЛЬНОГО комфорта. Когда ты сажаешь такого человека в комнату, набитую аппаратурой, под яркие бестеневые лампы, опутываешь проводами и обклеиваешь датчиками, ты обрекаешь себя на полный провал, а паранормалика – на безусловную творческую импотенцию. Есть птицы, которые никогда не поют в клетке, и есть животные (и их довольно много), которые не способны размножаться в неволе, – они делаются импотентными даже в самой большой и удобной клетке или вольере. Колдуну для работы нужна его черная страшная изба (как тарантулу – его земляная норка), там сами стены помогают ему, и не в переносном, а в прямом смысле. Впрочем, современный городской колдун точно так же нуждается в своей личной, собственной, ощупанной пальцами и взглядами, знакомой, словно карман старого пиджака, жилплощади, и неважно – конура это в коммуналке или роскошные кооперативные хоромы.
Я сформулировал практическое предложение на базе этого своего вывода. Я предложил организовать спецпансионат, куда собрать всех поднадзорных и предоставить им там уютно, вольготно, совершенно свободно существовать – делать себе норки, вить паутину, лепить ласточкины свои гнезда и прочее. А в контингент внедрить опытных наблюдателей. Только, по-моему, так можно надеяться получить реальный результат. Смешно же рассчитывать, что паук станет ловить мух в пустой стеклянной банке, в которой ничего нет, кроме него, яркого света и этих самых мух.
Предложение мое было принято, пансионат создан, я проработал там больше года, мне удалось отловить двух подлинных паранормаликов, и тут в руки мне попалась папка документов, с которой все по-настоящему и началось.
Мне не удалось выяснить, кто был тот умник (я не иронизирую, я действительно считаю его чрезвычайно умным и наблюдательным человеком, с прирожденным чутьем на паранормальность), кто был тот УМНИЦА, кому впервые пришло в голову объединить в единое дело несколько разнесенных по времени и по географическому пространству трагических событий, на протяжении многих лет остававшихся без объяснений.
Объединению этому безусловно содействовало то обстоятельство, что каждое из расследуемых событий было чрезвычайно похоже на любое другое аналогичное, причина смерти в каждом случае была одна и та же (неизвестный комментатор в своей сопроводиловке назвал ее почти поэтически: «разрыв мозга»), но вот механизм явления так и остался неустановленным, причем не удалось установить даже гипотетический механизм – любому непредубежденному наблюдателю все эти смерти представлялись чем-то совершенно МИСТИЧЕСКИМ (почему названная папка и оказалась в конце концов в архиве нашей группы).
Помогло также и то, что все, без исключения, жертвы в той или иной степени сотрудничали с органами, так что заведенные уголовные дела оставались в системе: проходили исключительно по нашим каналам и сосредоточены были, по сути, в одном месте.
Изначально в папке было пять дел. Приведу самую краткую суть каждого, расположивши их все в хронологическом порядке совершения событий.
Октябрь 1941 года. Николай Остапович Гугнюк, 31 год, старший лейтенант НКВД, следователь. Работал в хорошо всем известном Большом Доме. Отличался напористостью, жесткостью, даже – жестокостью, был «беспощаден к врагам трудового народа». Найден в своем кабинете, за рабочим столом: лежал грудью на папках с делами, головы фактически не было – она словно взорвалась изнутри, осколки черепных костей и клочья мозга разбросаны были по всему кабинету. Сгоряча решено было тогда, что это, разумеется, фашистская диверсия, выстрел предателя-диверсанта, однако не удалось найти пули, да и не бывает пуль, способных на такие разрушения. Другая версия: самоубийство – сунул в рот палочку динамита и задействовал взрыватель. Способ экзотический, но известный в следственной практике. В те дни (и годы) самоубийства следователей не были такой уж редкостью: не выдерживали нервы, страх буквально жевал людей, хрустя их костями, – страх ареста, страх фронта, страх военного поражения, страх ответственности... Но что касается Гугнюка, то он как раз был не из слабонервных, пил – умеренно, с женщинами был на высоте, работу свою любил и не боялся ее – не было у него внутри самоубийцы. И – главное – не обнаружены были никакие следы взрывного устройства или взрывчатки.
Конечно, время было нервное и дерганое: блокада началась, бои велись уже на Пулковских высотах, в спецтюрьме ежедневно шли в расход десятки ранее арестованных – инородцев, интеллигентов, недобитых с довоенных времен спецов, военных и технарей. Не было реальной возможности провести расследование с той тщательностью, которая подразумевается при событии насильственной смерти сотрудника НКВД. И главное: не оказалось НИКАКИХ зацепок, ничего не удалось обнаружить такого, что давало хотя бы намек на объяснение происшедшего. Какой-то гигант мысли написал в заключении о причине смерти: «вероятно, случайный осколок фашистской бомбы», и дело было задвинуто в архив.
В сорок девятом, когда органы чистили в очередной раз (Ленинградское дело), папочку извлекли и снова дали ей ход: теракт, измена, подрывная деятельность... Кое-кого (кому очередь подошла) шлепнули, кого-то посадили, кого-то выгнали – за непроявленную бдительность. Папочка пополнилась замечательными показаниями: «...подойдя со спины, трижды выстрелил Гугнюку в голову из пистолета ТТ, а затем, подобрав стреляные гильзы и сами пули...» Человек, который эти показания организовал, явно не дал себе труда прочитать описание того, как выглядел мертвый Гугнюк (листы дела 3, 4, 5), – впрочем, этого от него и не требовалось.
В пятьдесят пятом папочка снова пошла в дело: по крайней мере троих уволили из органавтов – и именно тогда попадает она в поле зрения моего Умницы, в распоряжении которого к этому моменту уже было кое-что аналогичное.
В августе 1948-го полковник медицинской службы, хирург Иван Захарович Габуния в присутствии множества свидетелей умер странной и страшной смертью за две минуты до начала пустяковой операции – рядовой апендэктомии, – которую он намеревался произвести. Больной, полностью подготовленный, уже лежал на столе, а Иван Захарович не спеша, с обычными своими шуточками-прибауточками, докуривал последнюю сигаретку «перед потрошением организма», – тоже полностью готовый, с марлевой маской на груди и с обтянутыми резиной, отмытыми, разведенными в стороны, ладонями вперед, руками, так что дымящуюся сигарету держала пинцетом и подносила ему к губам молоденькая медсестра. Строго говоря, эта медсестра и была единственным подлинным свидетелем события, остальные набежали со всех сторон позже, услышав нечеловеческий вопль несчастной девчонки, совершенно обезумевшей от ужаса. А ведь она была как-никак медсестра, причем медсестра Военно-медицинской академии, всякой крови и развороченной плоти успела навидаться, но даже ей показалось непереносимо ужасным, когда у человека, который только что мирно затягивался табачным дымом из ее рук и отпускал в ее адрес плотоядные шуточки, вдруг оба глаза вылетели из орбит и смачно шлепнулись в рукомойник. Иван Захарович Габуния умер практически мгновенно, еще до того, как обездвиженное тело его оказалось на кафельном полу.
Один из врачей, производивших вскрытие, сказал мне позднее: «Такое впечатление, что в черепной коробке у него вдруг возникла некая зона высочайшей температуры, мозг – мгновенно вскипел, и образовался клуб раскаленного пара под большим давлением», – со всеми вытекающими из этого чудовищными последствиями, добавил бы я: кипящую смесь выбросило через все предусмотренные природой отверстия черепа, но сам череп выдержал, только разошелся поперечный шов – не помню, как он называется по науке.
Следствие было начато по всей форме, но не успело еще даже по-настоящему зайти в тупик, как дело было изъято у военной прокуратуры и передано в органы. Во-первых, Иван Захарович был старым заслуженным нашим агентом (кличка Морзе, кличка Атташе и даже кличка Зоя), а во-вторых, возник к этому событию интерес некоего научно-исследовательского учреждения, занимавшегося разработкой нового оружия. По некоторым слухам, разрабатывали они там так называемую вакуумную бомбу и, видимо, нечто знакомое по своим предшествующим экспериментам усмотрели в обстоятельствах гибели агента Зоя. Впрочем, сходство оказалось, надо думать, поверхностным, дело через месяц снова появилось у нас с научной резолюцией «интереса не представляет», и все пошло чередом. Взяли и закатали на двадцать пять лет другого полковника медслужбы, излишне гонористого и болтливого знатока радиационных поражений кожи, агент Зоя давно его уже и весьма квалифицированно разрабатывал, так что слепить дело труда не составило, надо было только выбить из него признание в террористической деятельности в отношении сотрудника органов, а это уже была чисто техническая проблема. Смертная казнь тогда была еще в отмене, но, насколько я выяснил, гонористый полковник и без нее благополучно сгинул на зоне. Дело ушло в архив.
1950-й, снова август. Шерстнев Константин Ильич, кандидат физико-математических наук, физик-теоретик, диссертация – закрытая, на момент события – председатель приемной комиссии физического факультета. Мне удалось найти одного из членов этой комиссии, который наблюдал событие воочию. Все произошло около пяти часов дня, закончилось собеседование (оно тогда называлось коллоквиум), группа медалистов была человек тридцать-сорок, подавляющее большинство приемных дел никаких сомнений не вызывало, почти всех благополучно приняли, двоих-троих рабиновичей-гурштейнов благополучно отклонили, работа близилась к концу, но тут возник вдруг бешеный спор между Шерстневым и, скажем, товарищем Кадровым (будем называть его так). У одного из абитуриентов (рассказывал мой свидетель) анкета оказалась не в порядке, видимо, что-то неладно было у него с родственниками, видимо, был он, бедняга, ЧСВН, то есть «член семьи врага народа», и товарищ, будем называть его Кадров, уперся: нет. Шерстнев, как председатель, к этому «нет» был готов заранее и подозрительного абитуриента во время беседы буквально досуха выжал – задал ему несколько десятков вопросов, в том числе и на сообразительность тоже, имея целью создать благоприятную базу для вполне законного отклонения. Но парнишка оказался головастый, на большинство вопросов ответил вполне удовлетворительно, а одну задачку раздраконил с ходу просто даже блистательно. И Шерстнев его полюбил! «Плевать я хотел на ваше НЕТ! – орал он товарищу Кадрову. – Вы говорите НЕТ, а я говорю ДА! Хватит устраивать здесь перебдёжь! Я же не возражаю, когда вы космополитов отгоняете, я их и сам не люблю и вредными считаю. Но обескровливать советскую физику я вам не позволю! Этот парень, может быть, лучший из всего нынешнего приема, а вы его из-за своей инструкции отклонить хотите? Мало ли что инструкция! На вашу инструкцию – моя найдется, посильнее вашей!..» Они пререкались так минут пятнадцать, и все свирепее, и все страшнее было их слышать, потому что каждому из членов комиссии ясно уже было, что столкнулись здесь два подразделения одного ведомства, одно опаснее другого, и пуганые члены комиссии кто в стол глядел, язык проглотивши, а кто только глазами молчаливо лупал то на одного из спорщиков, то на другого. И вот когда все ждали, чем же ответит товарищ, будем называть его Кадров, на очередной свирепый выпад разгорячившегося и в горячке перешедшего уже чуть ли не на открытый текст председателя Шерстнева, когда все глаза устремлены были на явно поприутихшего товарища Кадрова, готового уже, по всей видимости, уступить сильнейшему, вот тут-то это и случилось.
Раздался звук, словно огромную пробку вышибло из огромной бочки с брагой, и сейчас же – сильнейший грохот, звон и лязг разбитого стекла. В свою последнюю секунду жизни Константин Ильич Шерстнев стоял у окна, и когда череп его разлетелся вдруг, тело без головы повалилось прямо в стекло. Был Шерстнев человек крупный, плечистый, тяжелый, рама под его весом хрустнула и надломилась, а стекла вылетели полностью, ни одного из четырех не осталось.
Следователь, волочивший это дело, видимо, упоен был идеей, что Шерстнева застрелил некий снайпер извне. Следа пули в осколках стекла обнаружить не представлялось возможным, что же касается самой пули, то это, надо думать, была пуля особого типа... Завоняло шпионажем, секретным оружием, диверсией – словом, двоих посадили (в том числе одного – из членов комиссии), дело отправили в архив, уцелевшие члены комиссии дали подписку о неразглашении и впоследствии все до единого были завербованы. Это всё – несущественно. Существенно же то, что мне пришло в голову спросить моего свидетеля (кличка Коржик): как звали того абитуриента, из-за которого, собственно, и разгорелся скандал? И существенно, прямо-таки первостепенно важно, что у Коржика память оказалась что твой капкан: КРАСНОГОРОВ, ответил он мне не задумываясь.
Если бы он сказал, допустим, «Алексеев», я, скорее всего, и сегодня бродил бы как в тумане, хотя на память и я не жалуюсь. Но одно дело (будучи Красногорским) запомнить фамилию Алексеев, или Кузьмин, или даже Логинов, и совсем другое (будучи, повторяю, Красногорским) зацепиться за фамилию Красногоров. И я зацепился. Зацепочка была слабенькая, словно паутинка приклеилась, но эту фамилию я уже впредь забыть не мог. Первый звоночек прозвенел, хотя я еще, разумеется, этого тогда не понимал.
Весной 1955-го года гибель постигла проректора Четвертого медицинского института Сергея Юрьевича Каляксина. Свидетелей происшествия не оказалось. Тело обнаружили спустя двое суток после события смерти на каляксинской даче в Комарово – покойный уехал на уик-энд, к назначенному времени не вернулся, родные кинулись искать (у него было неважное сердце) и нашли – в постели, с размозженной головой, уже в трупных пятнах. У Каляксина было неважное сердце, вполне развитой диабет, камни в почках, еще что-то, а умер он от «разрыва мозга» – болезни, которая науке неизвестна и, собственно, болезнью-то называться не может. На судебно-медицинской фотографии у Каляксина, лежавшего на спине под одеялом, вместо головы была какая-то беспорядочная каша и – два совершенно целых уха, справа и слева от этой каши.
Времена стояли на дворе уже вполне цивилизованные, Первая Оттепель, никого не посадили, никого даже не вербанули по случаю, дело смотрелось «глухарем» изначально, его проволочили кое-как – сначала уголовка, потом мы – и в конце концов со вздохом облегчения заморозили. Ну какое кому дело до смерти безвестного проректора? Работник он был поганый, лентяй и распустеха, терпеть его на службе не могли и терпели только из-за связей его с нашим ведомством, человечек – не ах, родственники, похоже, с облегчением вздохнули, с азартом погрузились в дележ наследства и отнюдь не рвались к высокому начальству с требованиями «немедленно найти и покарать» (наоборот, следственные действия с ними было проводить – сплошное мучение: на допросы они не являлись, заинтересованности не проявляли, показаний никаких дать были не способны, даже самых элементарных)... Он и агентишко-то был весьма посредственный – глупый, трусливый и безынициативный. И вообще, надо сказать, время было такое, что не способствовало по-настоящему азартному расследованию: шла новая волна, смена кадров, все тряслись в ожидании судьбы своей и работали спустя рукава. Так что дело заглохло быстро и прочно – в мертвую.
И целых десять лет ничего больше не происходило.
В июне 1965-го на тихой улице Москвы был найден труп Александра Силантьевича Калитина, молодого еще человека, журналиста и газетчика, довольно известного уже в профессиональных кругах. Его считали талантливым. (Мне приходилось читать его статьи – и в самом деле, интересно, он умел раскопать любопытную информацию и ловко подать ее: от него первого узнал я, например, почему в России традиционно разводят жирных свиней, в то время как в мире давно уже перешли на свинину чисто мясную, беконную.)
Он был человек, в свои еще молодые годы уже сильно пьющий, в пьяном виде – задиристый и небезопасный, так что сама по себе его уличная смерть мало кого (из знакомых) удивила – ну, надрался, ну, прицепился к кому-нибудь, ну, не на хорошего человека напал... Правда, нехороший человек так его отделал, что голову отреставрировать даже мастера похоронных дел не сумели, хоронить пришлось в закрытом гробу. Но в остальном история была совершенно рядовая, улично-уголовная, типичная пьяная зверская драка, его даже не обобрали – карман у него был полон денег (кстати, так и не удалось установить, откуда он, вечно нищебродствующий журналист, надыбал в одночасье больше тысячи рублей).
Такие истории происходят – по сотне в месяц. Разве что – повышенная, гипертрофированная даже, зверскость расправы да то обстоятельство, что был Калитин «нашим человеком», причем добровольцем: сам пару лет до того пришел, предложил свои услуги и давал вполне квалифицированные разработки на самых разных людей из кругов так называемой творческой интеллигенции.
Конечно, специалисты сразу же усекли, что нехороший человек орудовал отнюдь не ломом, не кастетом, а вообще неизвестно чем. Но все результаты следственной экспертизы оказались чисто негативными: нет, нет, не то и не это тоже. Глухарь. Архив.
Если тебя, по молодости твоих лет, удивляет, может быть, как легко и просто отправляют у нас в архив страшные и совершенно загадочные преступления, то имей в виду: во-первых, не так уж легко и просто, как я это здесь (для краткости) описываю; а во-вторых, знал бы ты, какие поразительные, ужасные и таинственные истории погребены в архивах! Если бы «разрыв мозга» зафиксирован был лишь единожды, то ничего такого уж загадочного и таинственного в этом событии не виделось бы опытному человеку, имеющему возможность сравнивать. «И не такое случается», – сказал бы он, криво ухмыльнувшись, и был бы прав.
Однако никогда не было еще замечено ранее, чтобы загадочно необъяснимые преступления шли СЕРИЕЙ! И стоило появиться на нашей сцене моему Умнице, стоило ему поймать СЕРИЮ, как сама собою возникла ПРОБЛЕМА. Умница эту проблему ощутил, почуял, нащупал, словно большого рака под корягою, но увидеть ее так и не смог. Он не смог сформулировать ее. Он только попытался найти скрытые закономерности. В деле сохранились его разрозненные заметки, вопросы, которые он задавал себе, следы попыток ответить на эти вопросы.
«Все жертвы – сотрудники органов. Случайность? Нет ли аналогичных случаев, когда жертва с органами не связана?» И поздняя, другими – красными – чернилами приписка: «Не обнаружено. 16.02.1969».
«Все пострадавшие – ленинградцы. Даже Калитин, убитый в Москве, приехал из Ленинграда. Центр – в Ленинграде?»
«Соответствующее оружие – возможно. Но только теоретически. Практически – громоздко и непрактично».
«Ни одной женщины. Случайность?» И – красными чернилами: «Пенза, 1966. Сексуальный маньяк. Орудовал специально изготовленным молотком, мозжил головы. Восемь жертв. ТОЛЬКО женщины!»
«Из пяти случаев: три – лето, один – весна, один – осень. И ни разу – зима? Странно».
И так далее.
Кто же он был, мой Умница? Из намеков, похмыкиваний, полувзглядов, начальственных раздражений и прочих междометий опрошенных людей возникла у меня гипотеза, что драпанул он, мой Умница, в свое время за бугор. А жаль! Ей-богу, жаль».
[Предыдущая часть] Оглавление [Следующая часть]
|