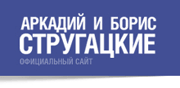|
ГЛАВА 2
Около часу ночи, когда решено было уже расходиться по койкам, ввалился вдруг министр печати – очень веселый, рот до ушей, громогласный и велеречивый. И сразу же всем стало очевидно: имеется хорошая новость. Наконец. И вопреки всему. Первая за весь день.
– Ну?! – сказано было ему навстречу чуть ли не хором.
Впрочем, оказалось всего-то навсего: шестое издание «Счастливого мальчика». Подарочное. Десять тысяч экземпляров. Яркая черно-синяя лакированная суперобложка. Иллюстрации Аракеляна. Предисловие Некрасавина. Элегантно. Скромно. В высшей степени достойно.
– Фу-ты, ну-ты, три креста, – произнес, повертев в руках книжку, Кузьма Иванович – с уважением, но довольно, впрочем, равнодушно. Он был безнадежно далек от изящной словесности и вообще от пропаганды пополам с агитацией, хотя и допускал, что данное литературное произведение вносит в политический имидж обожаемого Президента некий неуловимый, но существенный нюанс.
– А-ат-менно!.. А-а-тменно!.. – пел Эдик, листая мелованные страницы с голубым обрезом. Бледно-конопатое лицо его вдохновенно светилось: этот томик был – его затея, его забота, его трепетная редактура. Он чувствовал себя как бы теневым соавтором. У книг политических деятелей всегда есть соавтор, почтительно и скромно скрывающийся в титанической тени величественного монумента, – Эдик был безусловно и радостно согласен на такую роль.
А Кронид так же радостно, но совершенно уж бескорыстно сиял, оставаясь, по обыкновению, в сторонке. И сиял, потирая огромные белые ладони, гордый собою министр печати – Добрый Вестник. Все было прекрасно. Все было ОЧЕНЬ ХОРОШО. И при этом – всё было схвачено. Тираж завтра же, в четырех крупнейших магазинах Санкт-Петербурга и в трех Москвы. И завтра же самые серьезные рецензии – «Невское время», «Петербургские ведомости», а в столице – «Известия», «Общая» и – обязательно! – «Путь правды»... А там уже и радио на подхвате, и телевидение, и рекламно-коммерческие структуры, само собой... Схвачено – всё. У нас так: если уж схвачено, то – схвачено... Мы (у нас) – такие.
Галдели, хватали друг у дружки из рук, листали, любовались, гордились, отпускали уважительные шуточки, пока наконец, уловив в ласковых и теплых волнах всеобщей эйфории ледяные струйки усталой скуки, он не отобрал у них решительно книжку со словами:
– Все. Хватит. Иду в горизонталь... И если какая-нибудь падла осмелится побеспокоить меня раньше десяти – молитесь!..
Нестройный хор пожеланий доброй ночи проводил его и остался за дверью на жилую половину.
Он прошел через биллиардную, темную, холодную, пропахшую хорошим табаком, одеколоном и еще чем-то, мелом, наверное. За целиком стеклянной стеной слева и здесь тоже стоял непроницаемый туман, подсвеченный красным. Поблескивали в сумраке лакированные поверхности, слабо светлели шары, тяжелые и неподвижные на сукне стола.
Он уже миновал стол и стойку для киев и уже взялся за теплую деревянную дверную ручку, как вдруг испытал шок, мгновенный и болезненный, – вздрогнул, обомлел, даже потом, кажется, его окатило: кто-то тихо сидел в самом темном углу, в «курительной», за столиком, где стояла пепельница, окруженная пачками сигарет и пакетами табака, – кто-то угольно-черный, темнее тьмы, с выставленной вперед бешеной бородкой Грозного царя... Николас. Про него доносили, что бородку отпустил... бороденку... и сделался он якобы сразу же похож на Иоанна Грозного в исполнении артиста Николая Черкасова... И блестели влажные во тьме, неподвижные глаза.
Не было там никого. Морок. Угрюмая игра теней и отсветов. Господь с ним, нельзя о нем так много думать, не стоит он того. Ей-богу, не стоит...
Он передохнул, преодолев судорогу, и вышел в гостиную – на свет, в тепло, мягкость и уют Золотой гостиной.
Здесь все было белое и золотистое, нарядное, несколько помпезное и казенное... Министерство иностранных дел... Он не любил эту комнату. Это было помещение для дипломатических отправлений – вместилище роскошной мебели, золотистых драпировок и пригашенных бра, похожих на полузакрытые в распутной неге глаза. Но – красивое, красивое помещение, ничего не скажешь.
Он, торопливо и не слыша собственных шагов по обтянутому сукном полу, миновал Золотую и, совсем уже собравшись повернуть в анфиладу, в последний момент раздумал и повернул в кабинет.
Здесь снова оказалось темно и прохладно, даже холодно. Слабо мерцал звездным небом экран компьютера на рабочем столике, и компьютер на большом столе тоже работал – модемы бесшумно и стремительно качали информацию – мегабайты, гигабайты и что там еще идет за «гигами» (и все тут же запускалось в обработку, которой он теперь уже не понимал, даже и не пытался: там работали какие-то незнакомые, сумасшедшей сложности программы и принципы) – в прорву, в невообразимые свалки, склады, кладбища информации, – и все это могло оказаться полезным, могло понадобиться ему в любой момент, и никогда почти не становилось полезным, и никогда не надобилось, оставаясь навеки в невидимых и неосязаемых штабелях, грудах, рулонах, пластах...
Сама мысль об обладании этой неописуемой сокровищницей возбуждала. Или – делала глупым? Или не глупым, а просто ребенком? Ведь все компьютерщики – будь они программеры, хакеры или простые юзеры-чайники – все они дети: они играют. Всегда. Чем бы они ни занимались – они играют, играют роскошной умной игрушкой. Самозабвенно играющие, счастливые дети...
Он решительно уселся за пульт и вызвал программу PERS. На экране появилось: ФАМИЛИЯ. Он набрал: КРАСНОГОРОВ, и машина тотчас высветила новый вопрос: ИМЯ, и еще красную семерку рядом. Это означало, что Красногоровых у нее в памяти теперь уже семеро и она просит уточнения, который именно из них нужен. В прошлый раз Красногоровых значилось пятеро, а давно ли, казалось бы, это было?
– Размножаются, как проститутки... – проворчал он, набирая свое имя. Машина откликнулась неожиданно и как-то даже странно:
– СТАС, – появилось на экране и: – СТАНИСЛАВ.
– Что такое? – спросил он у нее недовольно, но тут же понял: сам и виноват – набирая свое имя, снебрежничал и набрал СТАСЛАВ. – Понятно, понятно, – пропел он, – значит, какой-то еще Стас у нас теперь объявился. Посмотрим, что это за Стас такой... – И он выбрал СТАС.
Оказалось тут же, что это некий Стас Красногоров, настоящая фамилия – Кургашкин Сергей Андреевич, 35 лет, рок-певец, руководитель группы «Хозяин», автор знаменитого шлягера того же названия.
– Это уже – слава, – сказал он, саркастически улыбаясь. – Если уж твое имя псевдонимом делают, это – слава... А рейтинг – падает между тем... «Осрамимся, провалимся», – процитировал он привычно и прошелся пальцами по клавиатуре – наугад.
Вполне бессмысленное УФЖКАН появилось на экране, компьютер задумался на секунду, но и тут не ударил в грязь лицом.
– УФЖКАН – НЕТ ДАННЫХ. ВАРИАНТ: УВАЖКАН АЛЕКСЕЙ БАРЕЕВИЧ.
Но ему мало дела было до этого неожиданного Уважкана, он вдруг ни с того ни с сего вспомнил и набрал: КИКОНИН ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ – как он там поживает, давно что-то не виделись...
Этого человека машина, конечно же, знала, но, видимо, не близко. Она знала вполне добропорядочного, унылого и суконно-скучного членкора, сотрудника двух Академий (Военно-медицинской и Сельскохозяйственной), директора Института генетики сельскохозяйственных животных, почетного члена трех международных фондов и тэ дэ, и тэ пэ в том же роде на весь экран. Кому это интересно и кто это захочет прочитать? Где сведения о пристрастиях и предрасположениях? Где интим? Где привычки, грехи и спотыкания? Где компромат? Ниточки с крючочками, за которые потянешь человека, и он твой? У Кузьмы Иваныча наверняка все это есть. Вот бы заглянуть!.. Не даст ведь ни за что. «Ни-ни-ни, Станислав Зиновьевич! И думать не моги! Зачем это вам? Три дня потом не отмоетесь... Да и нет у меня ничего. Сами же запретили компромат использовать, а если его не использовать, то хрена ли его в памяти держать, спрашивается? Только место занимать...»
Все и непрерывно – лгут. Точнее: все МЫ непрерывно и ожесточенно лжем. Одни – с кривой виноватой ухмылкой, другие – рвотный спазм мучительно преодолевая, а третьи – не без лихости даже, с вызовом и с боевым напором. Но – все...
Мирлина выписать, подумал он. Семку сюда выписать и поставить над всеми нами, чтобы не давал врать. Мысль эта воспламенила его, но только на мгновение – холодный голос как бы извне тотчас напомнил: он же старый хрен, ему же за семьдесят сейчас, опомнись, его, может быть, уже и на свете-то нет... Давай-давай, старое чудило, набери его имя, набери: Мирлин Семен Батькович... видишь, даже отчества его не помнишь... а может быть, и не знал никогда... Семен Батькович: ЮАР, редактор газеты такой-то (на африкаанс газетка-то, тоже не упомнишь, хуже любого отчества)... помер тогда-то и там-то... Этого тебе хочется? Нет. Не этого. Только не этого, ради бога... Совесть чужую над собой захотелось поставить? Своя – не справляется? Да, неплохо бы. Так вот: обойдешься. Раньше обходился и далее – тоже обойдешься. И всё. Минуту слабости предлагается считать благополучно истекшей...
Но он все-таки еще позволил себе набрать Николаса.
Конечно, здесь материалов было полно. И компромат был тоже, но почти все место занимали подробные пересказы последних его выступлений – перед ветеранами, перед абстинентами, перед феминистками, перед генштабистами – с точными цитатами и подробным перечислением сопутствующих обстоятельств: численность аудитории, возрастной состав, как реагируют, на что НЕ реагируют... Разумеется, в аналитическом разделе было отмечено то, о чем сегодня говорил Эдик: неожиданно повышенное внимание объекта к дружбе Станислава Зиновьевича с Виктором Григорьевичем. («Может ли поссориться Станислав Зиновьевич с Виктором Григорьевичем?» Какого черта? При чем здесь Виконт? Почему вдруг всплыл во всех этих речах, эссе, спичах и тостах Виконт? Случайность? Случайностей не бывает, заметил по этому поводу простой человек Кузьма Иваныч, и никто не решился его оспорить.)
Здесь было много любопытного хлама, но вот самого Николаса во всем этом хламе – не было. Не было уродливого, неуклюжего, туповатого, косноязычного, феноменально БЕСПЕРСПЕКТИВНОГО человечка, который однажды (почему? что побудило? как случилось?) вдруг взял себя за шкирку, встряхнул, словно пса дрожащего, и в несколько лет сотворил над собою чудо...
(Звали его, между прочим, изначально – Никита. Это он звал себя Ник: начитался Хемингуэя – «Трехдневная непогода», «Что-то кончилось», «Какими вы не будете» и тому подобное – «Пятая колонна и Двадцать восемь рассказов». Насмешники в институте переделали Ника в Николаса – так это и прилипло к нему, осталось на всю жизнь. Но только ЭТО. Все же остальное – изменилось. И не само собою изменилось, не по щучьему веленью, ничего сказочного в этом изменении не было, кроме того, конечно, что не бывает так у нормальных людей. Нормальные люди слабы, вялы и безвольны. Нормальные люди удовлетворяются тем, что им бог дал, а если ничего он им не дал, то лакают пивко и тихо злобствуют по поводу тех, блин, которым больше других нужно. А Ник-Николас был не нормальный, он был типичный self-made-man. Таких и нет в природе вовсе, никогда не было и скоро совсем не будет.
...Косноязычный? Демосфен тоже был, по слухам, косноязычный. Если ты хочешь стать оратором, надо говорить – много, громко, долго. Год. Два. Маме, сестренке, зеркалу. Ежедневно и по нескольку часов...
Если хочешь, слуха почти не имея, научиться играть на гитаре, надо купить самоучитель, гитару и играть. Долго. Много. Год. Два. Ежедневно. Сестренке, сестренкиным подружкам-насмешницам. Ритчи Блэкмора из тебя не получится, но порадовать общество, при необходимости, ты сумеешь...
Еще в школе физрук, оглядев его с некоторым даже изумлением, сказал озабоченно: «Прыгать ты не будешь – бабки короткие. И в баскет не будешь... и в волейбол... Может быть, гранату метать?..» У него реакция была – ни к черту. И неуклюж он был, как чайник. Он был от рождения и навсегда заторможен самим господом богом. Он был не просто неспортивен, он был АНТИспортивен. И тогда он стал играть в пинг-понг. Много. Часто. Каждый вечер. Под сдавленный хохот партнеров и хорошеньких зрительниц. Уже в институте, в коридоре на третьем этаже. До обалдения. Вы знаете, как это выглядит: чайник, пытающийся играть в пинг-понг?.. До отвращения. В ущерб науке... Первой ракеткой курса он не стал, но третьей, между прочим, – таки да, сделался. И отхватил вдруг при сдаче норм разряд на пять тысяч метров. А десять тысяч пробежал так, что его послали было на спартакиаду студентов, но он отказался ехать – ему сделалось неинтересно, ведь он уже добился своего: в очередной раз преодолел в себе чайника и заполучил то, чего недодал ему господь бог...
Да и времени не было совсем. Ему предстояло еще преодолеть абсолютную неспособность свою к языкам, к танцам, к плаванию и к живописи... И он все это преодолел – весь свой почти музейный набор прорех, антиспособностей, дыр и убожеств, доставшийся ему от природы. Так что к тридцати годам остались в нем от природы только: костлявое личико, морщинистая, жилистая, черепашья шея, землистая кожа, да кривоватый гигантский нос, да серые, вечно больные зубы, да глазки-буравчики без ресниц и без бровей – этого роскошного набора не сумел преодолеть даже он.)
Какого черта он глаз на нее положил, спрашивается? Других девок по сторонам не нашлось? Да квантум сатис, хоть жопой их ешь. Нет, влюбился, дурак, в девушку Хозяина. В любовницу. В жену. Может быть, она его поощряла? А хоть бы и поощряла. Она же молоденькая, дурочка еще, ягненок блеющий... («Он что – нравится тебе?» – «Да». – «Господи, да что тебе в нем может нравиться?!» – «Он – веселый...» – «Так. А я, значит, – скучный?» – «Нет. Ты – великий». О господи! Они не люди все-таки. Они – женщины.) Это было непереносимо. Это было срамно. И гадкое что-то в этом было. Блуд. Соблазн какой-то дьявольский. И – абсолютная безысходность.
– ...Ну, куда ты лезешь, в любовники? Ты же уродлив, малыш, ну кому ты такой нужен... У тебя изо рта несет, как из выгребной ямы, и шея плохо помыта. Ты что, не видишь – она же принцесса, а ты – Щелкунчик. И не более того... Щелкунчик из помойки. Подбери слюни, щенок беспородный, или пойди к блядям...
Идея была правильная. Отбить хотелку раз и навсегда. Молотком. Чтобы онемела и отсохла. Помучается с недельку, но – придет в себя. Оклемается. Минует «кратковременное безумие», и все будет как раньше. Нет. Перегнул палку. Перегнул и сломал. Ревность. Проклятое чудовище с зелеными глазами...
Впрочем, тут была не только сама по себе ревность (старика к молодому, собственника к неимущему), – была ведь еще и болезненная обида за этого великолепного уродца, такого умного, такого безгранично сильного, блестящего, шагающего через две ступеньки и вдруг унизившего себя до состояния ошалевшего суетливого кобелька, на все готового ради подвернувшейся не ко времени текучей сучки... Хотел остудить и образумить, как сына, а получилось – оскорбил и унизил, как врага. Насмерть. Навсегда.
– Прости меня, Ник, – сказал он в пустоту.
Поздно. Теперь уже – поздно. И нет на свете таких слов, которые здесь могут что-нибудь поправить...
Он рассеянно вызвал на экран последний текст, над которым работал, и без всякого удовольствия прочитал:
«Я прекрасно понимаю, зачем нужны люди творческие – ученые, писатели, архитекторы, живописцы, философы, поэты, композиторы... Этих набирается – тысячи, десятки тысяч, ну – сотни тысяч, если брать по всему свету. И не обязательно творческие – вообще талантливые люди. В том числе и слесаря Божьей Милостью, Божьей Милостью токари, гончары, дантисты, шоферы, сантехники, змееловы, кулинары, врачи – все, кто способны делать свое дело ХОРОШО. Этих набирается еще больше, может быть, даже и миллионы. Пусть – десятки миллионов.
Но куда мне девать СОТНИ миллионов и миллиарды тех, кто творческой жилки от Бога не заполучил, а ремесло свое знает плохо – не способен или даже не желает делать свое – или хоть какое-нибудь – дело ХОРОШО? Как с ними быть? Зачем они? На что имеют право? И – имеют ли? Что полагается человеку просто и только за то, что он человек? Не жук, не лягушка, не лось какой-нибудь, а – человек?
Лосю, например, ничего не полагается за то, что он лось. В лучшем случае – соли ему насыпать в деревянный желоб, чтобы посолонцевал. А человеку? Хлеб, соль, покой? Уважение? За что? А – по справедливости...
А что это вообще такое: справедливо устроенный мир? Это мир, в котором ВСЕМ ХОРОШО? Однако же что это за справедливость: когда хорошо и трудяге, и бездельнику, и тому, кто дает другим много, и тому, кто вообще ничего не дает (не может, не умеет, не хочет), а только берет? Каждому по труду? Но если труд твой – со всем его потом, надрывом, с кровавыми мозолями – НИКОМУ не нужен? (Классический пример: адов труд графомана или – труд Сизифа.) Ничего тебе такому не давать? Сизифу этакому. Но ты же РАБОТАЛ, работал, КАК ПРОКЛЯТЫЙ!..»
Все было правильно. Но – не интересно. Ему не было сегодня до этого никакого дела. Какая, в самом деле, может быть на свете справедливость, если одно-единственное слово, сказанное сгоряча, сжигает целый город добрых отношений... Спать пора, вот что, хоть завтра и свободный день...
Но прежде чем идти спать, он включил настольную лампу и несколько секунд сидел неподвижно, глядя в раскрытый форзац своего «Счастливого мальчика» с собственной фотографией на весь разворот. Радовался чудной золотистой бумаге и значительному лицу своему с горькими брыльями – не то пророка, не то американского генерала. И прикидывал: чего бы ей такого написать?.. Он плохо думал о ней только что – несправедливо, обидно и жестоко – и теперь чувствовал себя виноватым. Надо бы что-нибудь теплое. Смешное. Что-нибудь такое, чего еще никому не писал... И чтобы она расхохоталась...
Он вдруг вспомнил надпись, которую сделал Лариске на своей фотографии минский таксист. Сто сорок пять лет назад. В позапрошлом существовании. Когда все еще были живы, молоды и незнакомы. Когда все еще было впереди, а позади пока не было ничего... Таксист – лихой, только что из армии, с чубчиком, с прозрачными глазами ласкового негодяя, Жора, – написал молоденькой, заливающейся смехом Лариске:
Пусть милый взор твоих очей
СкользЯт по карточке моей
И может быть в твоем уме
Проснется память обо мне.
Это было то, что надо. Самое что ни на есть ТО. И обязательно – с сохранением особенностей правописания.
Не оценит, с сожалением подумал он, корябая золотым «паркером» по роскошной бумаге. Не в коня корм. Э-хе-хе-хе-хе, а я так люблю, когда она хохочет...
[Предыдущая часть] Оглавление [Следующая часть]
|