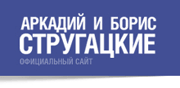|
Глава девятая
ПЕРЕЦ
Перец проснулся от неудобства, от тоски, от невыносимой, как ему показалось сначала, нагрузки на сознание и все органы чувств. Ему было неудобно до боли, и он невольно застонал, медленно приходя в себя.
Нагрузка на сознание оказалась отчаянием и досадой, потому что машина не ехала на Материк, она снова не ехала на Материк и вообще никуда не ехала. Она стояла с выключенным двигателем, мертвая и ледяная, с распахнутыми дверцами. Ветровое стекло было покрыто дрожащими каплями, которые сливались и текли холодными струйками. Ночь за стеклом озарялась ослепительными вспышками прожекторов и фар, и ничего не было видно, кроме этих непрерывных вспышек, от которых ломило глаза. И ничего не было слышно, и Перец даже подумал сначала, что оглох, и только затем сообразил, что на уши равномерно давит густой многоголосый рев сирен. Он заметался по кабине, больно ушибаясь о рычаги и выступы и о проклятый чемодан, попытался протереть стекло, высунулся в одну дверцу, высунулся в другую – он никак не мог понять, где он находится, что это за место и что все это означает. Война, подумал он, боже мой, это война!.. Прожектора со злобным наслаждением били его по глазам, и он ничего не видел, кроме какого-то большого незнакомого здания, в котором равномерно вспыхивали и гасли все окна разом на всех этажах. И еще он видел огромное количество широких лиловых пятен.
Чудовищный голос вдруг произнес спокойно, будто в полной тишине: «Внимание, внимание. Всем сотрудникам стоять на местах по положению номер шестьсот семьдесят пять дробь Пегас омикрон триста два директива восемьсот тринадцать, на торжественную встречу падишаха без специальной свиты, размер обуви пятьдесят пять. Повторяю. Внимание, внимание. Всем сотрудникам...» Прожектора перестали метаться, и Перец различил наконец знакомую арку с надписью «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ» и главную улицу Управления, и темные коттеджи вдоль нее, и каких-то неодетых людей с керосиновыми лампами, стоящих около коттеджей, а затем увидел совсем недалеко цепь бегущих людей в черных развевающихся плащах. Эти люди бежали, занимая всю ширину улицы, растянув что-то странное, светлое, и, приглядевшись, Перец понял, что они тащат не то бредень, не то волейбольную сетку, и сейчас же сорванный голос завизжал у него над ухом: «Почему машина? Ты почему здесь стоишь?» И, отшатнувшись, он увидел рядом с собой инженера в белой картонной маске с надписью по лбу чернильным карандашом «Либидович», и этот инженер полез грязными сапогами прямо по нему, пихая его локтем в лицо, храпя и воняя потом, повалился на место водителя, пошарил ключ зажигания, не нашел, истерически взвизгнул и выкатился из кабины на противоположную сторону. На улице зажглись все фонари, стало светло, как днем, а люди в белье все стояли с керосиновыми лампами у дверей коттеджей, и у каждого в руке был сачок для ловли бабочек, и они мерно размахивали этими сачками, словно отгоняя что-то невидимое от своих дверей. По улице навстречу и мимо прокатились одна за другой четыре мрачные черные машины, похожие на автобусы без окон, и на крышах у них вращались какие-то решетчатые лопасти, а потом из переулка вывернул вслед за ними старинный броневик. Ржавая башня его вращалась с пронзительным визгом, а тонкий ствол пулемета ходил вверх и вниз. Бронеавтомобиль с трудом протиснулся мимо грузовика, люк на его башне открылся, и высунувшийся человек в бязевой ночной рубашке с болтающимися тесемками недовольно прокричал Перецу: «Что же ты, голубчик? Проезжать надо, а ты стоишь!» Тогда Перец опустил голову на руки и закрыл глаза.
Я никогда не уеду отсюда, тупо подумал он. Я никому здесь не нужен, я абсолютно бесполезен, но они меня отсюда не выпустят, хотя бы для этого пришлось начать войну или устроить наводнение...
– Бумаги ваши попрошу, – сказал тягучий стариковский голос, и Переца похлопали по плечу.
– Что? – сказал Перец.
– Документики. Приготовили?
Это был старик в клеенчатом плаще, с берданкой, висящей поперек груди на облезлой металлической цепочке.
– Какие бумаги? Какие документы? Зачем?
– А, господин Перец! – сказал старик. – Что же это вы положение не выполняете? Все бумаги уже должны быть у вас в ручке в развернутом виде, как в музее...
Перец дал ему свое удостоверение. Старик, положив локти на берданку, внимательно изучил печати, сверил фотографию с лицом Переца и сказал:
– Что-то вы будто похудели, герр Перец. С лица словно бы спали. Работаете много... – Он вернул удостоверение.
– Что происходит? – спросил Перец.
– Что полагается, то и происходит, – сказал старик, внезапно посуровев. – Происходит положение за номером шестьсот семьдесят пять дробь Пегас. То есть побег.
– Какой побег? Откуда?
– Какой полагается по положению, такой и побег, – сказал старик, начиная спускаться по лестнице. – Того и гляди рванут, так что вы уши берегите, сидите лучше с открытым ртом.
– Хорошо, – сказал Перец. – Спасибо.
– Ты чего здесь, старый хрыч, ползаешь? – раздался внизу злобный голос шофера Вольдемара. – Я тебе покажу – документики! Во, понюхай! Понял? Ну и катись отсюда, если понял...
Мимо с топотом и криками проволокли на руках бетономешалку. Шофер Вольдемар, взъерошенный, ощеренный, вскарабкался в кабину. Бормоча черные слова, он завел двигатель и с грохотом захлопнул дверь. Грузовик рванул с места и помчался по улице мимо людей в белье, размахивающих сачками. В гараж, подумал Перец. Ах, все равно. Но к чемодану я больше не прикоснусь. Не желаю я его больше таскать, провались он пропадом. Он с ненавистью ткнул чемодан пяткой. Машина круто свернула с главной улицы, врезалась в баррикаду из пустых бочек и телег, разнесла ее и помчалась дальше. Некоторое время на радиаторе мотался расщепленный передок извозчичьей пролетки, потом сорвался и хрустнул под колесами. Грузовик несся теперь по тесным боковым улочкам. Вольдемар, насупленный, с потухшим окурком на губе, сгибаясь и разгибаясь всем телом, обеими руками крутил огромный руль. Нет, не в гараж, подумал Перец. И не в мастерские. И не на Материк. В переулках было темно и пусто. Только один раз в лучах фар промелькнули чьи-то картонные лица с надписями, растопыренные руки, и все исчезло.
– Черт меня дернул, – сказал Вольдемар. – Хотел же прямо на Материк ехать, а тут вижу – вы спите, дай, думаю, заверну в гараж, в шахматишки сгоняю партию... Только это я нашел Ахилла-слесаря, сбегали за кефиром, приняли, расставили... Я предлагаю ферзевый гамбит, он принимает, все как надо... Я – «е-4», он – «цэ-6»... Я ему говорю: ну, молись. И тут как началось... У вас сигаретки нет, пан Перец?
Перец дал ему сигарету.
– А что за побег? – спросил он. – И куда мы едем?
– Побег самый обыкновенный, – сказал Вольдемар, закуривая. – Каждый год у нас такие побеги. У инженеров машинка сбежала. И теперь приказ – всем ловить. Вон, ловят...
Поселок кончился. По пустырю, озаренному луной, бродили люди. Они словно играли в жмурки – шли на полусогнутых ногах, широко расставив руки. Глаза у всех были завязаны. Один с размаху налетел на столб и, вероятно, болезненно вскрикнул, потому что остальные разом остановились и стали осторожно ворочать головами.
– Каждый год такая петрушка, – говорил Вольдемар. – У них там и фотоэлементы, и разная акустика, и кибернетика, охранников-дармоедов понаставили на каждом углу – и все-таки обязательно каждый год у них какая-нибудь машинка да сбежит. И тогда тебе говорят: бросай все, иди ее ищи. А кому охота ее искать? Кому охота с ней связываться, я спрашиваю? Ведь если ты ее хоть краем глаза увидишь – все. Или тебя в инженеры упекут, или загонят куда-нибудь в лес, на дальнюю базу, грибы спиртовать, чтобы, упаси бог, не разгласил. Вот народ и ловчит, кто как умеет. Кто себе глаза завяжет, чтобы не увидеть, кто как... А кто поумней, тот просто бегает и кричит что есть мочи. У одного документы потребует, у другого обыск сделает, а то просто залезет на крышу и вопит. Вроде и при деле, а риска никакого...
– А мы что, тоже сейчас ловим? – спросил Перец.
– А как же, ловим. Народ ловит, и мы как все. Шесть часов ловить будем по часам. Есть приказ: если в течение шести часов бежавший механизм не обнаружен, его дистанционно взрывают. Чтобы все было шито-крыто. А то еще попадет в посторонние руки. Видали, какой кавардак в Управлении? Так это еще райская тишь, вы посмотрите, что там через шесть часов начнется. Ведь никто не знает, куда эта машинка заползла. Может, она у тебя в кармане. А заряд ей придается мощный, чтобы уж наверняка... Вот в прошлом году оказалась эта машинка в бане, а в баню множество народу понабилось – спасаться. Баня, думают, место сырое, незаметное... Ну и я там был. Баня же, думаю... Так меня в окно вынесло, плавно так, будто на волне. Моргнуть не успел, сижу в сугробе, а надо мной балки горящие проплывают...
Теперь вокруг была равнина, чахлая травка, мутный свет луны, разбитая белая дорога. Слева, там, где осталось Управление, опять суматошно мотались огни.
– Я только не понимаю, – сказал Перец. – Как же мы будем ее ловить, мы ведь даже не знаем, что она такое... Маленькая она или большая, темная или светлая...
– А это вы скоро увидите, – пообещал Вольдемар. – Это я вам минут через пять покажу. Как умные люди ловят. Черт, где же это место... Потерял. Влево, наверное, взял. Ага, влево... Вон склад техники, а нам, значит, надо правее...
Машина свернула с дороги и закачалась на кочках. Склад остался слева – ряды огромных светлых контейнеров, будто мертвый город на равнине.
...Наверное, она не выдержала. Они трясли ее на вибростенде, они вдумчиво мучили ее, копались во внутренностях, жгли тонкие нервы паяльниками, она задыхалась от запаха канифоли, ее заставляли делать глупости, ее создали, чтобы она делала глупости, ее совершенствовали, чтобы она делала все более глупые глупости, а вечером оставляли ее, истерзанную, обессиленную, в сухой жаркой комнатушке. И наконец она решилась уйти, хотя знала все – и бессмысленность побега, и свою обреченность. И она ушла, неся в себе самоубийственный заряд, и сейчас стоит где-нибудь в тени, мягко переступая коленчатыми ногами, и смотрит, и слушает, и ждет... И теперь ей, наверное, уже стало совершенно ясно все то, о чем она раньше только догадывалась: что никакой свободы нет, заперты перед тобой двери или открыты, что все глупость и хаос, и есть только одно одиночество...
– А!.. – сказал Вольдемар с удовлетворением. – Вот она, милая. Вот она, родимая...
Перец открыл глаза, но успел увидеть впереди только обширную черную лужу, даже не лужу, а просто болото, и услыхал, как заревел двигатель, а потом волна грязи вздыбилась и упала на ветровое стекло. Двигатель вновь дико взвыл и заглох. Стало очень тихо.
– Вот это по-нашему, – сказал Вольдемар. – Все шесть колес буксуют. Как мыло в тазу. Ясно? – Он сунул окурок в пепельницу и приоткрыл свою дверь. – Тут еще кто-то есть, – сообщил он и заорал: – Эй, друг! Как дела?
– Порядок! – донеслось снаружи.
– Поймал?
– Насморк поймал! – донеслось снаружи. – Унд пять головастиков.
– Плыви в гости!
Вольдемар крепко захлопнул дверцу, зажег в кабине свет, посмотрел на Переца, подмигнул ему, вытащил из-под сиденья мандолину и, склонив голову к правому плечу, принялся щипать струны.
– Вы устраивайтесь, устраивайтесь, – гостеприимно сказал он. – Пока утро наступит, пока тягач доползет...
– Спасибо, – покорно сказал Перец.
– Я вам не мешаю? – вежливо спросил Вольдемар.
– Нет-нет, – сказал Перец. – Пожалуйста...
Вольдемар откинул голову, закатил глаза и запел печальным голосом:
Тоске моей не вижу я предела,
Один брожу безумно и устало,
Скажи, зачем ко мне ты охладела,
Зачем любовь так грубо растоптала?
Грязь медленно стекала с ветрового стекла, и стало видно сияющее под луной болото и странной формы автомобиль, торчащий посередине этого болота. Перец включил стеклоочиститель и через некоторое время с изумлением обнаружил, что в трясине, увязнув до башни, стоит давешний броневик.
...Теперь с другим ты радуешься жизни,
А я один, безумный и усталый.
Вольдемар изо всех сил ударил по струнам, сфальшивил и откашлялся.
– Эй, друг! – донеслось снаружи. – Закуски нет?
– А что? – закричал Вольдемар.
– Имеется кефир!
– Я не один!
– Валите все! На всех хватит! Запаслись – знали, на что идем!
Шофер Вольдемар повернулся к Перецу.
– А что? – восхищенно сказал он. – Пошли? Кефиру выпьем, может быть, в теннис сыграем... А?
– Я не играю в теннис, – сказал Перец.
Вольдемар крикнул:
– Сейчас идем! Только лодку надуем!
Он быстро, как обезьяна, выкарабкался из кабины и завозился в кузове, лязгая там железом, роняя что-то и весело посвистывая. Потом раздался плеск, царапанье ногами по борту, и голос Вольдемара откуда-то снизу позвал: «Готово, господин Перец! Сигайте сюда, только мандолину захватите!» Внизу, на блестящей поверхности жидкой грязи, лежала надувная лодка, в ней, как гондольер, широко раздвинув ноги, с большой саперной лопатой в руке стоял Вольдемар и, радостно улыбаясь, глядел вверх на Переца.
...В старом ржавом бронеавтомобиле времен Вердена было жарко до тошноты, воняло горячим маслом и бензиновым перегаром, горела тусклая лампочка над железным командирским столиком, изрезанным неприличными надписями, под ногами хлюпала грязь, ноги стыли, мятый жестяной шкаф для боеприпасов был набит бутылками с кефиром, все были в ночном белье и чесали пятерней волосатые груди, все были пьяны, и зудела мандолина, и башенный стрелок в бязевой рубахе, которому не хватало места внизу, ронял сверху табачный пепел, а иногда падал сам спиной вниз, и каждый раз говорил: «Пардон, обознался...», и его с гоготом подсаживали обратно...
– Нет, – сказал Перец, – спасибо, Вольдемар, я здесь останусь. Мне кое-что постирать надо... да и зарядки я еще не делал...
– А, – сказал Вольдемар с уважением, – тогда другое дело. Тогда я поплыву, а вы, как со стиркой обернетесь, сразу крикните, мы за вами приедем... Мандолину бы мне только.
Он уплыл с мандолиной, а Перец остался сидеть и смотрел, как он сначала пытался загребать лопатой, но от этого лодка только крутилась на месте, и тогда он стал отталкиваться лопатой, как шестом, и дело пошло на лад. Луна обливала его мертвым светом, и он был похож на последнего человека после последнего Великого Потопа, который плавает между верхушками самых высоких зданий, очень одинокий, ищущий спасения от одиночества и еще полный надежд. Он подплыл к броневику, загремел кулаком по броне, из люка высунулись, весело заржали и втянули его внутрь вниз головой. И Перец остался один.
Он был один, как единственный пассажир ночного поезда, ковыляющего своими тремя облупленными вагончиками по отмирающей железнодорожной ветке, в вагоне все скрипит и шатается, в намертво перекошенные разбитые окна дует и несет паровозной гарью, подпрыгивают на полу окурки и скомканные бумажки, и качается на крючке забытая кем-то соломенная шляпа, а когда поезд подойдет к конечной станции, единственный пассажир выйдет на гнилую платформу, и его никто не встретит, он точно знает, что его никто не встретит, и он побредет домой, и дома зажарит себе на плитке яичницу из двух яиц с третьеводнишней позеленевшей колбасой...
Броневик вдруг затрясся, застучал и озарился судорожными вспышками. Сотни светящихся разноцветных нитей протянулись от него через равнину, и в сиянии луны и в блеске вспышек стало видно, как от броневика по гладкому зеркалу болота пошли широкие круги. Из башни высунулся некто в белом и, надрываясь, провозгласил: «Милостивые государи! Дамы, господа! Салют наций! С совершеннейшим почтением, ваше сиятельство, честь имею оставаться, многоуважаемая княгиня Дикобелла, вашим покорнейшим слугой, техник-смотритель, подпись неразборчива!..» Броневик снова затрясся, засверкал вспышками и снова затих.
Напущу я на вас неотвязные лозы, подумал Перец, и род ваш проклятый джунгли сметут, кровли обрушатся, балки падут, и карелою, горькой карелой дома зарастут...
...Лес надвигался, взбирался по серпантину, карабкался по отвесной скале, впереди шли волны лилового тумана, из них выползали, опутывая и сжимая, мириады зеленых щупалец, а на улицах разверзались клоаки, и дома проваливались в бездонные озера, и прыгающие деревья вставали на бетонных взлетных площадках перед битком набитыми самолетами, где люди лежали штабелями вперемешку с бутылками кефира, с серыми грифованными папками и с тяжелыми сейфами, и земля под утесом расступилась и всосала его. Это было бы так закономерно, так естественно, что никто не был бы удивлен, все были бы только испуганы и приняли бы уничтожение как возмездие, которого каждый в страхе ждал уже давно. А шофер Тузик, как паук, бегал бы между шатающимися коттеджами и искал бы Риту, чтобы напоследок получить все-таки свое, но так и не успел бы...
Из броневика взвились три ракеты, военный голос проревел: «Танки справа, укрытие слева! Экипаж, в укрытие!», и кто-то сейчас же подхватил косноязычно: «Бабы слева, койки справа! Эк-кипаж, по к-койкам!» И раздались ржание и топот, совершенно уже нечеловеческие, словно табун племенных жеребцов бился и лягался в этой железной коробке в поисках выхода на простор, к кобылам. Перец распахнул дверь и выглянул наружу. Под ногами была топь, глубокая топь, потому что чудовищные колеса грузовика уходили в жирную жижу выше ступиц. Правда, до берега было близко.
Перец перелез в кузов и долго шел к заднему борту, с грохотом и звоном ступая по дну этого необъятного стального корыта в густой лунной тени, потом вскарабкался на борт и по одной из бесчисленных лесенок спустился до самой воды. Некоторое время он, набираясь решимости, висел над ледяной жижей, а затем, когда в бронеавтомобиле снова ударили из пулемета, зажмурился и прыгнул. Жижа стала расступаться под ним и расступалась долго, долго-долго, и не было этому конца, и, когда он почувствовал под ногами твердь, грязь затопила его по грудь. Он налег на грязь всем телом, он толкал ее коленями и отталкивался ладонями, и сначала он только бился на месте, а потом приспособился и пошел, и, к своему удивлению, очень быстро оказался на сухом месте.
Хорошо бы где-нибудь отыскать людей, подумал он. Для начала просто людей – чистых, выбритых, внимательных, гостеприимных. Не надо полета высоких мыслей, не надо сверкающих талантов. Не надо потрясающих целей и самоотрицания. Пусть они просто всплеснут руками, увидев меня, и кто-нибудь побежит наполнять ванну, кто-нибудь побежит доставать чистое белье и ставить чайник, и чтобы никто не спрашивал документы и не требовал автобиографии в трех экземплярах с приложением двадцати дублированных отпечатков пальцев, и чтобы никто-никто не бросался к телефону сообщить куда следует значительным шепотом, что-де появился неизвестный, весь в грязи, называет себя Перецом, но только вряд ли он Перец, потому что Перец убыл на Материк, и приказ об этом уже отдан и завтра будет вывешен... Не нужно еще, чтобы они были принципиальными сторонниками или противниками чего-нибудь. Не нужно, чтобы они были принципиальными противниками пьянства, лишь бы сами не были пьяницами. Не нужно, чтобы они были принципиальными сторонниками правды-матки, лишь бы не врали и не говорили гадостей ни в глаза, ни за глаза. И чтобы они не требовали от человека полного соответствия каким-нибудь идеалам, а принимали и понимали бы его таким, какой он есть... Боже мой, подумал Перец, неужели я хочу так много?
Он вышел на дорогу и долго брел на огни Управления. Там неустанно вспыхивали прожектора, метались тени, поднимался разноцветный дым. Перец шел, в его ботинках ворчала и хлюпала вода, подсохшая одежда стояла коробом и шуршала, как картон, время от времени со штанов отваливались пласты грязи и шлепались на дорогу, и каждый раз Перецу казалось, что он выронил бумажник с документами, и он в панике хватался за карман, а когда он уже подходил к складу техники, его вдруг обожгла жуткая мысль, что документы подмокли и все печати и подписи на них расплылись и стали неразборчивы и непоправимо подозрительны. Он остановился, ледяными руками раскрыл бумажник и вытащил все удостоверения, все пропуска, все свидетельства, все справки и стал их рассматривать под луной. И оказалось, что ничего страшного не произошло, что вода попортила только одну пространную справку на гербовой бумаге, удостоверяющую, что предъявитель сего прошел курс прививок и допущен к работе на счетно-вычислительных машинах. Тогда он снова уложил документы в бумажник, проложив их аккуратно ассигнациями, и пошел было дальше, но тут представил себе, как выходит на главную улицу, и люди в картонных масках и косо приклеенных бородах хватают его за руки, завязывают ему глаза, дают ему что-то понюхать и приказывают: «Ищи! Ищи!», и говорят: «Запомнили запах, сотрудник Перец?», и науськивают: «Шерше, дура, шерше!» И представив себе все это, он, не останавливаясь, свернул с дороги и побежал, пригибаясь, к складу техники, нырнул в тень огромных светлых ящиков, запутался ногами в мягком и с разбегу упал на кучу тряпок и пакли.
Здесь оказалось тепло и сухо. Шершавые стенки ящиков были горячими на ощупь, и это сначала обрадовало, а потом уже удивило его. В ящиках было тихо, но он вспомнил рассказ о машинах, самостоятельно вылезающих из контейнеров, и понял, что в ящиках идет своя жизнь, и не испугался, а даже, наоборот, почувствовал себя в безопасности. Он сел поудобнее, снял сырые ботинки, стянул мокрые носки и вытер ноги паклей. Здесь было так тепло, так хорошо, так уютно, что он подумал: странно, неужели я здесь один? Неужели никто не сообразил, что гораздо лучше сидеть здесь, в тепле, нежели ползать по пустырям с завязанными глазами или торчать в смердящем болоте? Он прислонился спиной к горячей фанере и упер босые ноги в горячую фанеру напротив, и почувствовал, что ему хочется мурлыкать. Над головой у него была узкая щель, и он видел полоску белесого от луны неба и на ней несколько неярких звездочек. Откуда-то доносился гул, треск, рев моторов, но это его нисколько не касалось.
Хорошо бы здесь остаться навсегда, подумал он. Раз уж мне не уйти на Материк, останусь здесь навсегда. Подумаешь, машины! Все мы машины. Только мы – испорченные машины или плохо отлаженные.
...Есть такое мнение, господа, что человек никогда не договорится с машиной. И не будем, граждане, спорить. Директор тоже так считает. Да и Клавдий-Октавиан Домарощинер этого же мнения придерживается. Ведь что есть машина? Неодухотворенный механизм, лишенный всей полноты чувств и не могущий быть умнее человека. Опять же и структура небелковая, опять же и жизнь нельзя свести к физическим и химическим процессам, а значит, и разум... Тут на трибуну взобрался интеллектуал-лирик с тремя подбородками и галстуком-бабочкой, рванул себя безжалостно за крахмальную манишку и рыдающе провозгласил: «Я не могу... Я не хочу этого... Розовое дитя, играющее погремушечкой... Плакучие ивы, склоняющиеся к пруду... Девочки в беленьких фартучках... Они читают стихи... они плачут... плачут!.. над прекрасной строкой поэта... Я не желаю, чтобы электронное железо погасило эти глаза... эти губы... эти юные робкие перси... Нет, не станет машина умнее человека! Потому что я... Потому что мы... Мы не хотим этого! И этого не будет никогда! Никогда!!! Никогда!!!» К нему потянулись со стаканами воды, а в четырехстах километрах над его снежными кудрями беззвучно, мертво, зорко прошел, нестерпимо блестя, автоматический спутник-истребитель, начиненный ядерной взрывчаткой...
Я тоже этого не хочу, подумал Перец. Но нельзя же быть таким глупым дураком. Можно, конечно, объявить кампанию по предотвращению зимы, шаманить, нажравшись мухомора, бить в бубны, выкрикивать заклинания, но лучше все-таки шить шубы и покупать валенки... Впрочем, этот седовласый опекатель робких персей покричит-покричит с трибуны, а потом утащит у любовницы масленку из футляра со швейной машинкой, подкрадется к какой-нибудь электронной громадине и станет мазать ей шестеренки, искательно заглядывая в циферблаты и почтительно хихикая, когда его долбает током. Боже, спаси нас от седовласых глупых дураков. И не забудь при этом, боже, спасти нас от умных дураков в картонных масках...
– Я думаю, это у тебя сны, – произнес где-то наверху добродушный бас. – Я по себе знаю, от снов иногда бывает очень неприятный осадок. Иногда даже наступает словно бы паралич. Невозможно двигаться, невозможно работать. А потом все проходит. Надо бы тебе поработать. Почему бы тебе не поработать? И все осадки растворятся в удовольствии.
– Ах, да не могу я работать, – возразил капризный тонкий голос. – Мне все надоело. Всегда одно и то же: железо, пластмасса, бетон, люди. Я сыта этим по горло. Для меня в этом не осталось никакого удовольствия. Мир так прекрасен и так разнообразен, а я сижу на одном месте и умираю от скуки!
– Взяла бы да переменила место, – проскрипел издали какой-то сварливый старик.
– Легко сказать – перемени место! Вот я сейчас не на месте, и все равно мне тоскливо. А как трудно было уйти!
– Ну, хорошо, – сказал рассудительный бас. – А что тебе хочется? Это даже как-то непостижимо. Чего может хотеться, если не хочется работать?
– Ах, как вы не понимаете? Я хочу жить полной жизнью. Я хочу увидеть новые места, получить новые впечатления, ведь здесь все одно и то же...
– Отставить! – рявкнул оловянный голос. – Болтовня! Одно и то же – это хорошо. Постоянный прицел. Ясно? Повторите!
– Ах, да ну вас с вашими командами...
Разговаривали, несомненно, машины. Перец не видел их и никак не мог их себе представить, но ему чудилось, будто он притаился под прилавком игрушечного магазина и слушает, как беседуют игрушки, знакомые с детства, только огромные и поэтому страшные. Этот истерический тонкий голосок принадлежал, конечно, пятиметровой кукле Жанне. На ней было пестрое платье из тюля, и у нее было толстое розовое неподвижное лицо с закаченными глазами, толстые, нелепо растопыренные руки и ноги со склеенными пальцами. А басом говорил медведь, исполинский Винни Пух, едва умещающийся в контейнере, незлобивый, лохматый, набитый опилками, коричневый, со стеклянными глазами-пуговицами. И остальные были игрушками, но Перец еще не мог понять – какими.
– Я полагаю, что следует все-таки тебе поработать, – проворчал Винни Пух. – Ты, милочка, имей в виду, что здесь есть существа, которым повезло гораздо меньше, чем тебе. Например, наш садовник. Ему очень хочется работать. Но он сидит здесь и думает днем и ночью, потому что не окончательно еще разработал план действий. И никто не слыхал от него никаких жалоб. Однообразная работа – это тоже работа. Однообразное удовольствие – это тоже удовольствие. Это еще не причина для разговоров о смерти и тому подобном.
– Ах, вас не поймешь, – сказала кукла Жанна. – То у вас сны всему причиной, то я не знаю что. А у меня предчувствия. Я места себе не нахожу. Я знаю, что будет страшный взрыв, и я вся разлечусь на мельчайшие брызги и превращусь в пар. Я знаю, я видела...
– Отставить! – грянул оловянный голос. – Не терплю! Что вы знаете о взрывах? Вы можете бежать к горизонту с любой скоростью и под любым углом. И тот, кому надо, достанет вас с любого расстояния, и это будет настоящий взрыв, а не какой-нибудь интеллигентский пар. Но разве тот, кому это надо, – я? Никто этого не скажет, а если бы и хотел сказать, то не успел бы. Я знаю, что я говорю. Ясно? Повторите.
Во всем этом было много тупой самоуверенности. Это был наверняка огромный заводной танк. С такой же точно тупой самоуверенностью он перебирал резиновыми гусеницами, карабкаясь через подставленный ботинок.
– Я не знаю, что вы имеете в виду, – сказала кукла Жанна. – Но если я и прибежала сюда, к вам, к единственным близким мне существам, то это, по-моему, еще не означает, что я намерена ради чьего бы то ни было удовольствия бегать к горизонту под какими-то там углами. И вообще прошу обратить внимание, что я не с вами разговариваю... А если речь идет о работе, то я не больная, я существо нормальное, и мне удовольствия нужны, как и всем вам. Но это не настоящая работа, какое-то фальшивое удовольствие. Я все жду моего, настоящего, а его нет, нет и нет. И я не знаю, в чем дело, а когда начинаю думать, то додумываюсь до одних глупостей... – Она всхлипнула.
– Н-ну... – пробасил Винни Пух. – В общем-то, да... Конечно... Только... Гм...
– Все правильно! – заметил новый голос, очень звонкий и веселый. – Девочка права. Настоящей работы нет...
– Настоящая работа, настоящая работа! – ядовито проскрипел старик. – Вокруг целые рудники настоящей работы. Эльдорадо! Копи царя Соломона! Вон они ходят вокруг меня со своими больными внутренностями, со своими саркомами, с восхитительными свищами, с аппетитнейшими аденоидами и аппендиксами, с обыкновенным, но таким увлекательным кариесом, наконец! Давайте говорить откровенно. Они мешают, они не дают работать. Я не знаю, в чем тут дело, может быть, они издают какой-нибудь особый запах или излучают неизвестное поле, но когда они находятся рядом со мной, у меня начинается шизофрения. Я раздваиваюсь. Одна половина меня жаждет наслаждения, тянется схватить и сделать необходимое, сладостное, желанное, а другая впадает в прострацию и забивает все вечными вопросами: а стоит ли, а зачем, морально ли это... Вот вы, я про вас говорю, вы что, работаете?
– Я? – сказал Винни Пух. – Конечно... А как же?.. Странно даже от вас слышать, не ожидал... Я кончаю проектирование вертолета, и потом... Ведь я рассказывал, что создал превосходный тягач, это было такое наслаждение... По-моему, у вас нет оснований сомневаться, работаю ли я.
– Да не сомневаюсь я, не сомневаюсь, – проскрипел старик. (Гнусный такой тряпичный старикашка, не то гоблин, не то астролог, в черной плюшевой мантии с золотыми блестками.) – Вы мне только скажите, где этот тягач?
– Н-ну... Не понимаю даже... Откуда я знаю? И какое мне дело? Сейчас меня интересует вертолет...
– Об этом и речь! – сказал Астролог. – Вам ни до чего нет дела. Вы всем довольны. Вам никто не мешает. Вам даже помогают! Вот вы разродились тягачом, захлебываясь от удовольствия, и люди сейчас же убрали его от вас, чтобы вы не отвлекались на мелочи, а наслаждались бы по большому счету. А вот вы спросите его, помогают ему люди или нет...
– Мне? – взревел Танк. – Дерьмо! Отставить! Когда кое-кто выходит на полигон и решает немного размяться, продлить удовольствие, поиграть, взять цель в азимутальную или, скажем, вертикальную вилку, они поднимают шум и гам, они поднимают крик, от которого становится противно, и любой впадает в расстройство. Но разве я сказал, что этот любой – я? Нет! Этого вы от меня не дождетесь. Ясно? Повторите!
– И я, и я тоже! – затрещала кукла Жанна. – Сколько раз я уже думала, зачем они существуют? Ведь все в мире имеет смысл, правда? А они, по-моему, не имеют. Наверное, их нет, это просто галлюцинации. Когда пытаешься проанализировать их, взять пробу из нижней части, из верхней части, из середины, то обязательно натыкаешься на стену или пробегаешь мимо, или вдруг засыпаешь...
– Они несомненно существуют, глупая вы истеричка! – проскрипел Астролог. – У них есть и верхняя часть, и нижняя, и средняя, и все эти части заполнены болезнями. Я не знаю ничего более восхитительного, никакое другое существо не несет в себе столько объектов наслаждения, как люди. Что вы понимаете в смысле их существования?
– Да бросьте вы усложнять! – сказал звонкий веселый голос. – Они просто красивы. Истинное удовольствие смотреть на них. Не всегда, конечно, но вот представьте себе сад. Пусть это будет сколь угодно прекрасный сад, но без людей он не будет совершенен, не будет закончен. Хоть один вид людей должен обязательно оживлять его. Пусть это будут маленькие люди с голыми конечностями, которые никогда не ходят, а только бегают и бросают камни... или средние люди, рвущие цветы... все равно. Пусть даже лохматые люди, которые бегают на четырех конечностях. Сад без них не сад...
– Кое-кого тоска берет слушать эту бессмыслицу, – заявил Танк. – Вздор! Сады ухудшают видимость, а что касается людей, то кое-кому они мешают беспрерывно, и что-нибудь хорошее о них сказать просто нельзя. Во всяком случае, стоит кому-нибудь дать ха-ароший залп по сооружению, в котором почему-либо находятся люди, как пропадает всякое желание работать, тянет поспать, и любой, кто это сделал, засыпает. Натурально, я говорю это не о себе, но если бы кто-нибудь и сказал это обо мне, разве стали бы вы возражать?
– Что-то вы в последнее время много говорите о людях, – сказал Винни Пух. – С чего бы ни начался разговор, вы обязательно сворачиваете на людей.
– А почему, собственно, и нет? – сейчас же взъелся Астролог. – Вам-то что до этого? Вы оппортунист! А если нам хочется говорить, то мы и будем говорить. Не испрашивая у вас разрешения.
– Пожалуйста, пожалуйста, – грустно сказал Винни Пух. – Просто раньше мы говорили главным образом о живых существах, о наслаждении, о замыслах, а теперь я отмечаю, что люди начинают занимать все большее место в наших разговорах, а значит и в мыслях.
Наступило молчание. Перец, стараясь двигаться бесшумно, переменил позу – лег на бок и поджал колени к животу. Винни Пух не прав. Пусть они говорят о людях, пусть они как можно больше говорят о людях. Они, по-видимому, очень плохо знают людей, и поэтому очень интересно, что же они скажут. Устами младенцев глаголет истина. Когда люди сами говорят о себе, они либо бахвалятся, либо каются. Надоело...
– Вы все достаточно глупы в своих суждениях, – сказал Астролог. – Вот, например, садовник. Я надеюсь, вы понимаете, что я достаточно объективен, чтобы сопереживать удовольствиям моих товарищей. Вы любите сажать сады и разбивать парки. Прекрасно. Сопереживаю. Но скажите на милость, при чем здесь люди? При чем здесь люди, которые поднимают ножку возле деревьев, или те, которые делают это иным способом? Я ощущаю здесь некое нездоровое эстетство. Это как если бы, оперируя гланды, я для полноты удовольствия требовал, чтобы оперируемый был при этом замотан в цветную тряпку...
– Просто вы суховаты по натуре, – заметил Садовник, но Астролог не слушал его.
– Или вот вы, – продолжал он, – вы постоянно размахиваете своими бомбами и ракетами, вы рассчитываете упреждения и балуетесь с целеуловителями. Не все ли вам равно, есть ли в сооружении люди или нет? Казалось бы, наоборот, вы могли бы подумать о своих товарищах, обо мне, например. Сшивать раны! – произнес он мечтательно. – Вы представить себе не можете, что это такое – сшивать хорошую рваную рану на животе...
– Опять о людях, опять о людях, – сокрушенно сказал Винни Пух. – Седьмой вечер мы говорим только о людях. Мне странно говорить об этом, но, по-видимому, между вами и людьми возникла некая, пока неопределенная, но достаточно прочная связь. Природа этой связи для меня совершенно неясна, если не считать вас, доктор, для кого люди являются необходимым источником удовольствия... Вообще все это мне кажется нелепым, и, по-моему, настала пора...
– Отставить! – прорычал Танк. – Пора еще не настала.
– Ч-что? – спросил Винни Пух растерянно.
– Пора еще не настала, говорю я, – повторил Танк. – Некоторые, конечно, неспособны знать, настала пора или нет, некоторые – я не называю их – не знают даже о том, что такая пора должна настать, но кое-кто знает совершенно точно, что неизбежно наступит время, когда по людям, находящимся внутри сооружений, стрелять будет не только можно, но даже и нужно! А кто не стреляет – тот враг! Преступник! Уничтожить! Ясно? Повторите!
– Я догадываюсь о чем-то подобном, – неожиданно мягким голосом произнес Астролог. – Рваные раны... Газовая гангрена... Радиоактивный ожог третьей степени...
– Все они призраки, – вздохнула кукла Жанна. – Какая тоска! Какая печаль!..
– Раз уж вы никак не можете кончить говорить о людях, – сказал Винни Пух, – то давайте попытаемся выяснить природу этой связи. Попытаемся рассуждать логически...
– Одно из двух, – сказал новый голос, размеренный и скучный. – Если упомянутая связь существует, то доминантными являются либо они, либо мы.
– Глупо, – сказал Астролог. – При чем здесь «либо»? Конечно, мы.
– А что такое «доминантный»? – спросила кукла Жанна несчастным голосом.
– Доминантный в данном контексте означает превалирующий, – пояснил скучный голос. – Что же касается самой постановки вопроса, то она является не глупой, а единственно верной, если мы собираемся рассуждать логически.
Наступила пауза. Все, видимо, ждали продолжения. Наконец Винни Пух не выдержал и спросил: «Ну?»
– Я не уяснил себе, собираетесь ли вы рассуждать логически? – сказал скучный голос.
– Да, да, собираемся, – загомонили машины.
– В таком случае, принимая существование связи как аксиому, либо они для вас, либо вы для них. Если они для вас и они мешают вам действовать в соответствии с законами вашей природы, они должны быть устранены, как устраняется любая помеха. Если вы для них, но вас не удовлетворяет такое положение вещей, они также должны быть устранены, как устраняется всякий источник неудовлетворительного положения вещей. Это все, что я могу сказать по существу вашей беседы.
Никто больше не произнес ни слова, в контейнерах послышалась возня, скрип, щелканье, словно огромные игрушки устраивались спать, утомившись разговором, и еще чувствовалась повисшая в воздухе всеобщая неловкость, как в компании людей, которые долго болтали языками, не щадя ради красного словца ни матери, ни отца, и вдруг почувствовали, что зашли в болтовне слишком далеко. «Влажность что-то поднимается», – проскрипел вполголоса Астролог. «Я уже давно заметила, – пропищала кукла Жанна. – Так приятно: новые цифры...» – «И что это у меня питание барахлит? – проворчал Винни Пух. – Садовник, у вас нет запасного аккумулятора на двадцать два вольта?» – «Ничего у меня нет», – отозвался Садовник. Потом послышался треск, будто отдирали фанеру, механический свист, и Перец вдруг увидел в узкой щели над собой что-то блестящее, движущееся, ему показалось, что кто-то заглядывает к нему в тень между ящиками, он облился холодным потом от ужаса, поднялся, вышел на цыпочках в лунный свет и, сорвавшись, побежал к дороге. Он бежал изо всех сил, и ему все казалось, что десятки странных нелепых глаз провожают его и видят, какой он маленький, жалкий, беззащитный на открытой всем ветрам равнине, и смеются, что тень его гораздо больше его самого и что он от страха забыл надеть ботинки и теперь даже думать боится вернуться за ними.
Он миновал мост через сухой овраг и уже видел перед собой окраинные домики Управления, и уже почувствовал, что задыхается и что босым пальцам нестерпимо больно, и хотел остановиться, когда сквозь шум собственного дыхания услыхал позади дробный топот множества ног. И тогда, вновь потеряв голову от страха, он помчался из последних сил, не чувствуя под собою земли, не чувствуя своего тела, отплевывая липкую тягучую слюну, ничего больше не соображая. Луна мчалась рядом с ним над равниной, а топот приближался и приближался, и он подумал: все, конец, и топот настиг его, и кто-то огромный, белый, жаркий, как распаленная лошадь, появился рядом, заслонив луну, вырвался вперед и стал медленно удаляться, в неистовом ритме выбрасывая длинные голые ноги, и Перец увидел, что это человек в футболке с номером «14» и в белых спортивных трусах с темной полосой, и Перецу стало еще страшнее. Множественный топот за его спиной не прекращался, слышались стоны и болезненное вскрикивание. Бегут, подумал он истерически. Все бегут! Началось! И они бегут, только поздно, поздно, поздно!..
Он смутно видел по сторонам коттеджи главной улицы и чьи-то замершие лица, но он все старался не отстать от длинноногого человека номер 14, потому что не знал, куда надо бежать и где спасение, а может быть, где-нибудь уже раздают оружие, а я не знаю где, и опять окажусь в стороне, но я не хочу, не могу быть сейчас в стороне, потому что они там, в ящиках, может быть, по-своему и правы, но они тоже мои враги...
Он влетел в толпу, и толпа расступилась перед ним, и перед его глазами мелькнул квадратный флажок в шахматную клетку, и раздались одобрительные возгласы, и кто-то знакомый побежал рядом, приговаривая: «Не останавливайтесь, не останавливайтесь, Перец... Можно дышать ртом... Глубже, глубже, но не останавливайтесь...» Тогда он остановился, и его тотчас обступили и накинули на плечи атласный халат. Раскатистый радиоголос произнес: «Вторым пришел Перец из отдела Научной охраны со временем семь минут двенадцать и три десятых секунды... Внимание, приближается третий!»
Знакомый человек, оказавшийся Проконсулом, говорил: «Вы просто молодец, Перец, я никак не мог ожидать. Когда вас объявили на старте, я хохотал, а теперь вижу, что вас необходимо включить в основную группу. Сейчас идите отдыхайте, а завтра к двенадцати извольте на стадион. Надо будет преодолеть штурмовую полосу. Я вас пущу за слесарные мастерские... Не спорьте, с Кимом я договорюсь». Перец огляделся. Вокруг было много знакомых людей и неизвестных в картонных масках. Неподалеку подбрасывали в воздух и ловили длинноногого мужчину, который прибежал первым. Он взлетал под самую луну, прямой, как бревно, прижимая к груди большой металлический кубок. Поперек улицы висел плакат с надписью «ФИНИШ», а под плакатом стоял, глядя на секундомер, Клавдий-Октавиан Домарощинер в строгом черном пальто и с повязкой «ГЛ. СУДЬЯ» на рукаве. «...И если бы вы бежали в спортивной форме, – бубнил Проконсул, – можно было бы засчитать вам это время официально». Перец отодвинул его локтем и на подгибающихся ногах побрел сквозь толпу.
– ...Чем потеть от страха, сидя дома, – говорили в толпе, – лучше заняться спортом.
– То же самое я только что говорил Домарощинеру. Но дело здесь не в страхе, вы заблуждаетесь. Следовало упорядочить беготню поисковых групп. Поскольку все и так бегают, пусть хоть бегают с пользой...
– А чья это затея? Домарощинера! Этот своего не упустит. Талант!..
– Напрасно все-таки бегают в кальсонах. Одно дело – выполнять в кальсонах свой долг, это почетно. Но соревноваться в кальсонах – это, по-моему, типичный организационный просчет. Я буду об этом писать...
Перец выбрался из толпы и, шатаясь, побрел по пустой улице. Его тошнило, болела грудь, и он представлял себе, как те, в ящиках, вытянув металлические шеи, с изумлением глядят на дорогу, на толпу в кальсонах и с завязанными глазами, и тщетно силятся понять, какая существует связь между ними и деятельностью этой толпы, и понять, конечно, не могут, и то, что служит у них источниками терпения, уже готово иссякнуть...
В коттедже Кима было темно, плакал грудной ребенок.
Дверь гостиницы оказалась забита досками, и окна тоже были темными, а внутри кто-то ходил с потайным фонарем, и Перец заметил в окнах второго этажа чьи-то бледные лица, осторожно выглядывающие наружу.
Из дверей библиотеки торчал бесконечно длинный ствол пушки с толстым дульным тормозом, а на противоположной стороне улицы догорал сарай, и по пожарищу бродили озаряемые багровым пламенем люди в картонных масках и с миноискателями.
Перец направился в парк. Но в темном переулке к нему подошла женщина, взяла его за руку и, не говоря ни слова, куда-то повела. Перец не сопротивлялся, ему было все равно. Она была вся в черном, рука ее была теплая и мягкая, и белое лицо светилось в темноте. Алевтина, подумал Перец. Вот она и дождалась своего часа, подумал он с откровенным бесстыдством. А что тут такого? Ведь ждала же. Непонятно почему, непонятно, на что я ей сдался, но ждала именно меня...
Они вошли в дом, Алевтина зажгла свет и сказала:
– Я тебя здесь давно жду.
– Я знаю, – сказал он.
– А почему же ты шел мимо?
В самом деле, почему? – подумал он. Наверное, потому, что мне было все равно.
– Мне было все равно, – сказал он.
– Ладно, это неважно, – сказала она. – Присядь, я сейчас все приготовлю.
Он присел на край стула, положив руки на колени, и смотрел, как она сматывает с шеи черную шаль и вешает ее на гвоздь – белая, полная, теплая. Потом она ушла в глубь дома, и там загудела газовая колонка и заплескалась вода. Он почувствовал сильную боль в ступнях, задрал ногу и посмотрел на босую подошву. Подушечки пальцев были сбиты в кровь, и кровь смешалась с пылью и засохла черными корочками. Он представил себе, как опускает ноги в горячую воду, и как сначала это очень больно, а потом боль проходит и наступает успокоение. Буду сегодня спать в ванне, подумал он. А она пусть иногда приходит и добавляет горячей воды.
– Иди сюда, – позвала Алевтина.
Он с трудом поднялся – ему показалось, что у него сразу болезненно заскрипели все кости – и прихрамывая пошел по рыжему ковру к двери в коридор, а в коридоре – по черно-белому ковру в тупичок, где дверь в ванную была уже распахнута, и деловито гудело синее пламя в газовой колонке, и блестел кафель, и Алевтина, нагнувшись над ванной, высыпала в воду какие-то порошки. Пока он раздевался, сдирая с себя задубевшее от грязи белье, она взбила воду, и над водой поднялось одеяло пены, выше краев поднялась белоснежная пена, и он погрузился в эту пену, закрыв глаза от наслаждения и боли в ногах, а Алевтина присела на край ванны и, ласково улыбаясь, глядела на него, такая добрая, такая приветливая, и не было сказано ни единого слова о документах...
Она мыла ему голову, а он отплевывался и отфыркивался, и думал, какие у нее сильные умелые руки, совсем как у мамы, и готовит она, наверное, так же вкусно, как мама, а потом она спросила: «Спину тебе потереть?» Он похлопал себя ладонью по уху, чтобы выбить воду и мыло, и сказал: «Ну, конечно, еще бы!..» Она продрала ему спину жесткой мочалкой и включила душ.
– Подожди, – сказал он. – Я хочу еще полежать просто так. Сейчас я эту воду выпущу, наберу чистую и полежу просто так, а ты посиди здесь. Пожалуйста.
Она выключила душ, вышла ненадолго и вернулась с табуреткой.
– Хорошо! – сказал он. – Знаешь, мне никогда еще не было здесь так хорошо.
– Ну вот, – улыбнулась она. – А ты все не хотел.
– Откуда же мне было знать?
– А зачем тебе все обязательно знать заранее? Мог бы просто попробовать. Что ты терял? Ты женат?
– Не знаю, – сказал он. – Теперь, кажется, нет.
– Я так и думала. Ты, наверное, ее очень любил. Какая она была?
– Какая она была... Она ничего не боялась. И она была добрая. Мы с нею вместе бредили про лес.
– Про какой лес?
– Как – про какой? Лес один.
– Наш, что ли?
– Он не ваш. Он сам по себе. Впрочем, может быть, он действительно ваш. Только трудно себе представить это.
– Я никогда не была в лесу, – сказала Алевтина. – Там, говорят, страшно.
– Непонятное всегда страшно. Хорошо бы научиться не бояться непонятного, тогда все было бы просто.
– А по-моему, просто не надо выдумывать, – сказала она. – Если поменьше выдумывать, тогда на свете не будет ничего непонятного. А ты, Перчик, все время выдумываешь.
– А лес? – напомнил он.
– А что – лес? Я там не была, но попади я туда, не думаю, чтобы очень растерялась. Где лес, там тропинки, где тропинки, там люди, а с людьми всегда договориться можно.
– А если не люди?
– А если не люди, так там делать нечего. Надо держаться людей, с людьми не пропадешь.
– Нет, – сказал Перец. – Это все не так просто. Я вот с людьми прямо-таки пропадаю. Я с людьми ничего не понимаю.
– Господи, да чего ты, например, не понимаешь?
– А ничего не понимаю. Я, между прочим, поэтому и о лесе мечтать начал. Но теперь я вижу, что в лесу не легче.
Она покачала головой.
– Какой же ты еще ребенок, – сказала она. – Как же ты еще никак не можешь понять, что ничего нет на свете, кроме любви, еды и гордости. Конечно, все запутано в клубок, но только за какую ниточку ни потянешь, обязательно придешь или к любви, или к власти, или к еде...
– Нет, – сказал Перец. – Так я не хочу.
– Милый, – сказала она тихонько. – А кто же тебя станет спрашивать, хочешь ты или нет... Разве что я тебя спрошу: и чего ты, Перчик, мечешься, какого рожна тебе надо?
– Мне, кажется, сейчас уже ничего не надо, – сказал Перец. – Удрать бы отсюда подальше и заделаться архивариусом... или реставратором. Вот и все мои желания.
Она снова покачала головой.
– Вряд ли. Что-то у тебя слишком сложно получается. Тебе что-нибудь попроще надо.
Он не стал спорить, и она поднялась.
– Вот тебе полотенце, – сказала она. – Вот здесь я белье положила. Вылезай, будем чай пить. Чаю напьешься с малиновым вареньем и ляжешь спать.
Перец уже выпустил всю воду и, стоя в ванне, вытирался огромным мохнатым полотенцем, когда звякнули стекла и донесся глухой отдаленный удар. И тогда он вспомнил склад техники и глупую истеричную куклу Жанну и крикнул:
– Что это? Где?
– Это машинку взорвали, – отозвалась Алевтина. – Не бойся.
– Где? Где взорвали? На складе?
Некоторое время Алевтина молчала, видимо, смотрела в окно.
– Нет, – сказала она наконец. – Почему на складе? В парке... Вон дым идет... А забегали-то все, а забегали...
[Предыдущая часть] Оглавление [Следующая часть]
|