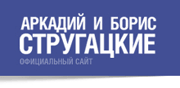|
Из отчета Льва Абалкина
...Снова усиливается дождь, туман становится еще гуще, так что дома справа и слева почти невозможно разглядеть с середины улицы. Эксперты впадают в панику – им померещилось, что теперь отказывают биооптические преобразователи. Я их успокаиваю. Успокоившись, они наглеют и пристают, чтобы я включил противотуманный прожектор. Я включаю им прожектор. Эксперты ликуют было, но тут Щекн усаживается на хвост посередине мостовой и объявляет, что не сделает более ни шагу, пока не уберут эту дурацкую радугу, от которой у него болят уши и чешется между пальцами. Он, Щекн, превосходно видит все и без этих нелепых прожекторов, а если эксперты и не видят чего-нибудь, то им и видеть-то ничего не надо, пусть-ка они лучше займутся каким-нибудь полезным делом, например, приготовят к его, Щекна, возвращению овсяную похлебку с бобами. Взрыв возмущения. Вообще-то эксперты побаиваются Щекна. Любой землянин, познакомившись с голованом, рано или поздно начинает его побаиваться. Но в то же время, как это ни парадоксально, тот же землянин не способен относиться к головану иначе как к большой говорящей собаке (ну, там, цирк, чудеса зоопсихологии, то-се...).
Один из экспертов имеет неосторожность пригрозить Щекну, что его оставят без обеда, если он будет упрямиться. Щекн повышает голос. Выясняется, что он, Щекн, всю свою жизнь прекрасно обходился без экспертов. Более того, мы здесь чувствовали себя до сих пор особенно хорошо именно тогда, когда экспертов не было ни видно и ни слышно. Что же касается персонально того эксперта, который, судя по всему, нацелился сейчас потребить его, Щекна, овсяную похлебку с бобами... И так далее, и так далее, и так далее.
Я стою под дождем, который все усиливается и усиливается, слушаю всю эту экспертно-бобовую белиберду и никак не могу стряхнуть с себя какое-то дремучее оцепенение. Мне чудится, будто я присутствую на удивительно глупом театральном представлении без начала и конца, где все действующие лица поперезабыли свои роли и несут отсебятину в тщетной надежде, что кривая вывезет. Это представление затеяно как бы специально для меня, чтобы как можно дольше удерживать меня на месте, не дать сдвинуться ни на шаг дальше, а тем временем за кулисами кто-то торопливо делает так, чтобы мне стало окончательно ясно: все без толку, ничего сделать нельзя, надо возвращаться домой...
С огромным трудом я беру себя в руки и выключаю проклятый прожектор. Щекн сейчас же обрывает на полуслове длинное, тщательно продуманное оскорбление и как ни в чем не бывало устремляется вперед. Я шагаю следом, слушая, как Вандерхузе наводит порядок у себя на борту: «Срам!.. Мешать полевой группе!.. Немедленно удалю из рубки!.. Отстраню!.. Базар!..»
– Развлекаешься? – тихонько спрашиваю я Щекна.
Он только косится выпуклым глазом.
– Склочник, – говорю я. – И все вы, голованы, склочники и скандалисты...
– Мокро, – невпопад отзывается Щекн. – И полно лягушек. Ступить некуда... Опять грузовики, – сообщает он.
Из тумана впереди явственно и резко тянет вонью мокрого ржавого железа, и минуту спустя мы оказываемся посреди огромного беспорядочного стада разнообразных автомашин.
Здесь и обыкновенные грузовики, и грузовики-фургоны, и гигантские автоплатформы, и крошечные каплевидные легковушки, и какие-то чудовищные самоходные устройства с восемью колесами в человеческий рост. Они стоят посередине улицы и на тротуарах, кое-как, вкривь и вкось, упираясь друг в друга бамперами, иногда налезая друг на друга, – невообразимо ржавые, полуразвалившиеся, распадающиеся от малейшего толчка. Их сотни. Идти быстро невозможно, приходится обходить, протискиваться, перебираться, и все они нагружены домашним скарбом, и скарб этот тоже давно сгнил, истлел, проржавел до неузнаваемости...
Где-то на краю сознания жалобно бубнят усмиренные эксперты, встревоженно гудит Вандерхузе, но мне не до них. Я с проклятьями вытягиваю ноги из вонючей трясины полусгнившего тряпья и сейчас же с проклятьями проваливаюсь в недра каких-то огромных ящиков, где в грудах затхлой бумаги отчаянно пищат голые розовые крысята, и с проклятьями выкатываюсь, проламывая плечом какую-то гнилую деревянную стенку, под дождь, в лужу, распугивая лягушек... Хрустит и скрипит под ногами битое стекло, раскатываются в стороны какие-то то ли банки, то ли подшипники, прочное на вид никелированное железо разваливается в прах, когда рука пытается опереться на него, а один раз стенка фургона, гигантского, как трансконтинентальный контейнер, вдруг сама собой раскалывается поперек, и с гнилым хрюканьем вываливаются оттуда потоки неузнаваемого мусора в густых клубах отвратительно воняющей пыли...
А потом как-то неожиданно этот безобразный лабиринт кончается.
То есть вокруг по-прежнему машины, сотни машин, но теперь они стоят в относительном порядке, выстроившись по обе стороны мостовой и на тротуарах, а середина улицы совершенно свободна.
Я гляжу на Щекна. Щекн яростно отряхивается, чешется всеми четырьмя лапами сразу, вылизывает спину, плюется, изрыгает проклятия и снова принимается отряхиваться, чесаться и вылизываться.
Вандерхузе тревожно осведомляется, почему мы сошли с маршрута и что это был за склад. Я объясняю, что это был не склад. Мы дискутируем на тему: если это следы эвакуации, то почему аборигены эвакуировались с окраины в центр.
– Обратно я этой дорогой не пойду, – объявляет Щекн и яростным шлепком припечатывает к мостовой пробирающуюся мимо лягушку.
В два часа пополудни Штаб распространяет первое итоговое сообщение. Экологическая катастрофа, но цивилизация погибла по какой-то другой причине. Население исчезло, так сказать, в одночасье, но оно не истребило себя в войнах и не эвакуировалось через Космос – не та технология, да и вообще планета представляет собой не кладбище, а помойку. Жалкие остатки аборигенов прозябают в сельской местности, кое-как обрабатывают землю, совершенно лишены культурных навыков, однако прекрасно управляются с магазинными винтовками. Вывод для нас со Щекном: город должен быть абсолютно пуст. Мне этот вывод представляется сомнительным. Щекну тоже.
Улица расширяется, дома и ряды машин по обе стороны от нас совершенно исчезают в тумане, и я чувствую перед собой открытое пространство. Еще несколько шагов, и впереди из тумана возникает приземистый квадратный силуэт. Это опять броневик – совершенно такой же, как тот, что попал под обвалившуюся стену, но этот брошен давным-давно, он просел под собственной тяжестью и словно бы врос в асфальт. Все люки его распахнуты настежь. Два коротких пулеметных ствола, некогда грозно уставленных навстречу каждому, кто выходил на площадь, теперь уныло поникли, ржавые капли сочатся из них и лениво стекают на покатый лобовик. Проходя мимо, я машинально толкаю распахнутую боковую дверцу, но она приржавела намертво.
Перед собой я не вижу ничего. Туман на этой площади какой-то особенный, неестественно густой, словно он отстаивался здесь много-много лет и за эти годы слежался, свернулся, как молоко, и просел под собственной тяжестью.
– Под ноги! – командует вдруг Щекн.
Я гляжу под ноги и ничего не вижу. Зато до меня вдруг доходит, что под подошвами уже не асфальт, а что-то мягкое, пружинящее, склизкое, словно толстый мокрый ковер. Я приседаю на корточки.
– Можешь включить свой прожектор, – ворчит Щекн.
Но я уже и без всякого прожектора вижу, что асфальт здесь почти сплошняком покрыт довольно толстой неаппетитной коркой, какой-то спрессованной влажной массой, обильно проросшей разноцветной плесенью. Я вытаскиваю нож, поддеваю пласт этой корки – от заплесневелой массы отдирается не то тряпочка, не то обрывок ремешка, а под ремешком этим мутной зеленью проглядывает что-то округлое (пуговица? пряжка?), и медленно распрямляются какие-то то ли проволочки, то ли пружинки...
– Они все здесь шли... – говорит Щекн со странной интонацией.
Я поднимаюсь и иду дальше, ступая по мягкому и скользкому. Я пытаюсь укротить свое воображение, но теперь у меня это не получается. Все они шли здесь, вот этой же дорогой, побросав свои ненужные больше легковушки и фургоны, сотни тысяч и миллионы вливались с проспекта на эту площадь, обтекая броневик с грозно и бессильно уставленными пулеметами, шли, роняя то немногое, что пытались унести с собой, спотыкались и роняли, может быть, даже падали сами и тогда уже не могли подняться, и все, что падало, втаптывалось, втаптывалось и втаптывалось миллионами ног. И почему-то казалось, что все это происходило ночью – человеческая каша была озарена мертвенным неверным светом, и стояла тишина, как во сне...
– Яма... – говорит Щекн.
Я включаю прожектор. Никакой ямы нет. На сколько хватает луч, ровная гладкая площадь светится бесчисленными тусклыми огоньками люминесцирующей плесени, а в двух шагах впереди влажно чернеет большой, примерно двадцать на сорок, прямоугольник гладкого голого асфальта. Он словно аккуратно вырезан в этом проплесневелом мерцающем ковре.
– Ступеньки! – говорит Щекн как бы с отчаянием. – Дырчатые! Глубоко! Не вижу...
У меня мурашки ползут по коже: я никогда еще не слыхал, чтобы Щекн говорил таким странным голосом. Не глядя, я опускаю руку, и пальцы мои ложатся на большую лобастую голову, и я ощущаю нервное подрагивание треугольного уха. Бесстрашный Щекн испуган. Бесстрашный Щекн прижимается к моей ноге совершенно так же, как его предки прижимались к ногам своих хозяев, учуяв за порогом пещеры незнакомое и опасное...
– Дна нет... – говорит он с отчаянием. – Я не умею понять. Всегда бывает дно. Они все ушли туда, а дна нет, и никто не вернулся... Мы должны туда идти?
Я опускаюсь на корточки и обнимаю его за шею.
– Я не вижу здесь ямы, – говорю я на языке голованов. – Я вижу только ровный прямоугольник асфальта.
Щекн тяжело дышит. Все мускулы его напряжены, и он все теснее прижимается ко мне.
– Ты не можешь видеть, – говорит он. – Ты не умеешь. Четыре лестницы с дырчатыми ступенями. Стерты. Блестят. Все глубже и глубже. И никуда. Я не хочу туда. Не приказывай.
– Дружище, – говорю я. – Что это с тобой? Как я могу тебе приказывать?
– Не проси, – говорит он. – Не зови. Не приглашай.
– Мы сейчас уйдем отсюда, – говорю я.
– Да. И быстро!
Я диктую донесение. Вандерхузе уже переключил мой канал на Штаб, и, когда я заканчиваю, вся экспедиция уже в курсе. Начинается галдеж. Выдвигаются гипотезы, предлагаются меры. Шумно. Щекн понемножку приходит в себя: косит желтым глазом и то и дело облизывается. Наконец вмешивается сам Комов. Галдеж прекращается. Нам приказано продолжать движение, и мы охотно подчиняемся.
Мы огибаем страшный прямоугольник, пересекаем площадь, минуем второй броневик, запирающий проспект с противоположной стороны, и снова оказываемся между двумя колоннами брошенных автомашин. Щекн снова бодро бежит впереди, он снова энергичен, сварлив и заносчив. Я усмехаюсь про себя и думаю, что на его месте я сейчас, несомненно, мучился бы от неловкости за тот панический приступ почти детского страха, с которым не удалось совладать там, на площади. А вот Щекн ничем таким не мучается. Да, он испытал страх и не сумел скрыть этого, и не видит здесь ничего стыдного и неловкого. Теперь он рассуждает вслух:
– Они все ушли под землю. Если бы там было дно, я бы уверил тебя, что все они живут сейчас под землей очень глубоко, не слышно. Но там нет дна! Я не понимаю, где они там могут жить. Я не понимаю, почему там нет дна и как это может быть.
– Попытайся объяснить, – говорю я ему. – Это очень важно.
Но Щекн не может объяснить. Очень страшно, твердит он. Планеты круглые, пытается объяснить он, и эта планета тоже круглая, я сам видел, но на той площади она вовсе не круглая. Она там как тарелка. И в тарелке дырка. И дырка эта ведет из одной пустоты, где находимся мы, прямо в другую пустоту, где нас нет.
– А почему я не видел этой дырки?
– Потому что она заклеена. Ты не умеешь. Заклеивали от таких, как ты, а не от таких, как я...
Потом он вдруг сообщает, что снова появилась опасность. Небольшая опасность, обыкновенная. Очень давно не было совсем, а теперь опять появилась.
Через минуту от фасада дома справа отваливается и рушится балкон третьего этажа. Я быстро спрашиваю Щекна, не уменьшилась ли опасность. Он не задумываясь отвечает, что да, уменьшилась, но ненамного. Я хочу его спросить, с какой стороны угрожает нам теперь эта опасность, но тут в спину мне ударяет плотный воздух, в ушах свистит, шерсть на Щекне поднимается дыбом.
По проспекту проносится словно маленький ураган. Он горячий, и от него пахнет железом. Еще несколько балконов и карнизов с шумом обрушиваются по обеим сторонам улицы. С длинного приземистого дома срывает крышу, и она – старая, дырявая, рыхлая, – медленно крутясь и разваливаясь на куски, проплывает над мостовой и исчезает в туче гнойно-желтой пыли.
– Что там у вас происходит? – вопит Вандерхузе.
– Сквозняк какой-то... – отзываюсь я сквозь зубы.
Новый удар ветра заставляет меня пробежаться вперед помимо воли. Это как-то унизительно.
– Абалкин! Щекн! – гремит Комов. – Держитесь середины! Подальше от стен! Я продуваю площадь, у вас возможны обвалы...
И в третий раз короткий горячий ураган проносится вдоль проспекта, как раз в тот момент, когда Щекн пытается развернуться носом к ветру. Его сбивает с ног и юзом волочит по мостовой в унизительной компании с какой-то зазевавшейся крысой.
– Все? – раздраженно спрашивает он, когда ураган стихает. Он даже не пытается подняться на ноги.
– Все, – говорит Комов. – Можете продолжать движение.
– Огромное вам спасибо, – говорит Щекн, ядовитый, как самая ядовитая змея.
В эфире кто-то хихикает, не сдержавшись. Кажется, Вандерхузе.
– Приношу свои извинения, – говорит Комов. – Мне нужно было разогнать туман.
В ответ Щекн изрыгает самое длинное и замысловатое проклятие на языке голованов, поднимается, бешено встряхивается и вдруг замирает в неудобной позе.
– Лев, – говорит он. – Опасности больше нет. Совсем. Сдуло.
– И на том спасибо, – говорю я.
Информация от Эспады. Чрезвычайно эмоциональное описание Главного Гаттауха. Я вижу его перед собой как живого: невообразимо грязный, вонючий, покрытый лишаями старикашка лет двухсот на вид, утверждает, будто ему двадцать один год, все время хрипит, кашляет, отхаркивается и сморкается, на коленях постоянно держит магазинную винтовку и время от времени палит в божий свет поверх головы Эспады, на вопросы отвечать не желает, а все время норовит задавать вопросы сам, причем ответы выслушивает нарочито невнимательно и каждый второй ответ во всеуслышание объявляет ложью...
Проспект вливается в очередную площадь. Собственно, это не совсем площадь – просто справа располагается полукруглый сквер, за которым желтеет длинное здание с вогнутым фасадом, уставленным фальшивыми колоннами. Фасад желтый, и кусты в сквере какие-то вяло-желтые, словно в канун осени, и поэтому я не сразу замечаю посередине сквера еще один «стакан».
На этот раз он целехонек и блестит как новенький, будто его только сегодня утром установили здесь, среди желтых кустов, – цилиндр высотой метра в два и метр в диаметре, из полупрозрачного, похожего на янтарь материала. Он стоит совершенно вертикально, и овальная дверца его плотно закрыта.
На борту у Вандерхузе вспышка энтузиазма, а Щекн лишний раз демонстрирует свое безразличие и даже презрение ко всем этим предметам, «не интересным его народу»: он немедленно принимается чесаться, повернувшись к «стакану» задом.
Я обхожу «стакан» кругом, потом берусь двумя пальцами за выступ на овальной дверце и заглядываю внутрь. Одного взгляда мне вполне достаточно – заполняя своими чудовищными суставчатыми мослами весь объем «стакана», выставив перед собой шипастые полуметровые клешни, тупо и мрачно глянул на меня двумя рядами мутно-зеленых бельм гигантский ракопаук с Пандоры во всей своей красе.
Не страх во мне сработал, а спасительный рефлекс на абсолютно непредвиденное. Я и ахнуть не успел, как уже изо всех сил упирался плечом в захлопнутую дверцу, а ногами – в землю, с головы до ног мокрый от пота, и каждая жилка у меня дрожит.
А Щекн уже рядом, готовый к немедленной и решительной схватке, – покачивается на вытянутых напружиненных ногах, выжидательно поводя из стороны в сторону лобастой головой. Ослепительно белые зубы его влажно блестят в уголках пасти. Это длится всего несколько секунд, после чего он сварливо спрашивает:
– В чем дело? Кто тебя обидел?
Я нашариваю рукоять скорчера, заставляю себя оторваться от проклятой дверцы и принимаюсь пятиться, держа скорчер на изготовку. Щекн отступает вместе со мной, все более раздражаясь.
– Я задал тебе вопрос! – заявляет он с негодованием.
– Ты что же, – говорю я сквозь зубы, – до сих пор ничего не чуешь?
– Где? В этой будке? Там ничего нет!
Вандерхузе с экспертами взволнованно галдят над ухом. Я их не слушаю. Я и без них знаю, что можно, например, подпереть дверцу бревном – если найдется – или сжечь ее целиком из скорчера. Я продолжаю пятиться, не спуская глаз с дверцы «стакана».
– В будке ничего нет! – настойчиво повторяет Щекн. – И никого нет. И много лет никого не было. Хочешь, я открою дверцу и покажу тебе, что там ничего нет?
– Нет, – говорю я, кое-как управляясь со своими голосовыми связками. – Уйдем отсюда.
– Я только открою дверцу...
– Щекн, – говорю я. – Ты ошибаешься.
– Мы никогда не ошибаемся. Я иду. Ты увидишь.
– Ты ошибаешься! – рявкаю я. – Если ты сейчас же не пойдешь за мной, значит ты мне не друг и тебе на меня наплевать!
Я круто поворачиваюсь на каблуках (скорчер в опущенной руке, предохранитель снят, регулятор на непрерывный разряд) и шагаю прочь. Спина у меня огромная, во всю ширину проспекта, и совершенно беззащитная.
Щекн с чрезвычайно недовольным и брезгливым видом шлепает лапами слева и позади. Ворчит и задирается. А когда мы отходим шагов на двести и я совсем уже успокаиваюсь и принимаюсь искать ходы к примирению, Щекн вдруг исчезает. Только когти шарахнули по асфальту. И вот он уже около будки, и поздно уже кидаться за ним, хватать за задние ноги, волочить дурака прочь, и скорчер мой теперь уже совершенно бесполезен, а проклятый голован приоткрывает дверцу и долго, бесконечно долго смотрит внутрь «стакана»...
Потом, так и не издав ни единого звука, он снова прикрывает дверцу и возвращается. Щекн униженный. Щекн уничтоженный. Щекн, безоговорочно признающий свою полную непригодность и готовый поэтому претерпеть в дальнейшем любое с ним обращение. Он возвращается к моим ногам и усаживается боком, уныло опустив голову. Мы молчим. Я избегаю глядеть на него. Я гляжу на «стакан», чувствуя, как струйки пота на висках высыхают и стягивают кожу, как уходит из мышц мучительная дрожь, сменяясь тоскливой тягучей болью, и больше всего на свете мне хочется сейчас прошипеть: «С-с-скотина!..» и со всего размаха, с рыдающим выдохом залепить оплеуху по этой унылой, дурацкой, упрямой, безмозглой лобастой башке. Но я говорю только:
– Нам повезло. Почему-то они здесь не нападают...
Сообщение из Штаба. Предполагается, что «прямоугольник Щекна» является входом в межпространственный тоннель, через который и было выведено население планеты. Предположительно, Странниками...
Мы идем по непривычно пустому району. Никакой живности, даже комары куда-то исчезли. Мне это скорее не нравится, но Щекн не обнаруживает никаких признаков беспокойства.
– На этот раз вы опоздали, – ворчит он.
– Да, похоже на то, – отзываюсь я с готовностью.
После инцидента с ракопауком Щекн заговаривает впервые. Кажется, он склонен поговорить о постороннем. Склонность эта проявляется у него не часто.
– Странники, – ворчит он. – Я много раз слышал: Странники, Странники... Вы совсем ничего о них не знаете?
– Очень мало. Знаем, что это сверхцивилизация, знаем, что они намного мощнее нас. Предполагаем, что они не гуманоиды. Предполагаем, что они освоили всю нашу Галактику, причем очень давно. Еще мы предполагаем, что у них нет дома – в нашем или в вашем понимании этого слова. Поэтому мы и называем их Странниками...
– Вы хотите с ними встретиться?
– Да как тебе сказать... Комов отдал бы за это правую руку. А я бы, например, предпочел, чтобы мы не встретились с ними никогда...
– Ты их боишься?
Мне не хочется обсуждать эту проблему. Особенно сейчас.
– Видишь ли, Щекн, – говорю я, – это длинный разговор. Ты бы все-таки поглядывал по сторонам, а то, я смотрю, ты стал какой-то рассеянный.
– Я поглядываю. Все спокойно.
– Ты заметил, что здесь вся живность исчезла?
– Это потому, что здесь часто бывают люди, – говорит Щекн.
– Вот как? – говорю я. – Ну, ты меня успокоил.
– Сейчас их нет. Почти.
Кончается сорок второй квартал, мы подходим к перекрестку. Щекн объявляет вдруг:
– За углом человек. Один.
Это дряхлый старик в длинном черном пальто до пят, в меховой шапке с наушниками, завязанными под взлохмаченной грязной бородой, в перчатках веселой ярко-желтой расцветки, в нелепых башмаках с матерчатым верхом. Двигается он с огромным трудом, еле ноги волочит. До него метров двадцать, но и на этом расстоянии отчетливо слышно, как он тяжело, с присвистом дышит, а иногда постанывает от напряжения.
Он грузит тележку на высоких тонких колесиках, что-то вроде детской коляски. Убредает в разбитую витрину, надолго исчезает там и так же медленно выбирается обратно, опираясь одной рукой о стену, а другой, скрюченной, прижимает к груди по две, по три банки с яркими этикетками. Каждый раз, подобравшись к своей коляске, он обессиленно опускается на трехногий складной стульчик, некоторое время сидит неподвижно, отдыхая, а затем принимается так же медлительно и осторожно перекладывать банки из-под скрюченной руки на тележку. Потом снова отдыхает, будто спит сидя, и снова поднимается на трясущихся ногах и направляется к витрине – длинный, черный, согнутый почти пополам.
Мы стоим на углу, почти не прячась, потому что нам ясно: старик ничего не видит и не слышит вокруг. По словам Щекна, он здесь совсем один, вокруг никого больше нет, разве что очень далеко. У меня нет ни малейшего желания вступать с ним в контакт, но, по-видимому, придется это сделать – хотя бы для того, чтобы помочь ему с этими банками. Но я боюсь его испугать. Я прошу Вандерхузе показать его Эспаде, пусть Эспада определит, кто это такой – «колдун», «солдат» или «человек».
Старик в десятый раз разгрузил свои банки и опять отдыхает, сгорбившись на трехногом стульчике. Голова его мелко трясется и клонится все ниже на грудь. Видимо, он засыпает.
– Я ничего подобного не видел, – объявляет Эспада. – Поговорите с ним, Лев...
– Уж очень он стар, – с сомнением говорит Вандерхузе.
– Сейчас умрет, – ворчит Щекн.
– Вот именно, – говорю я. – Особенно если я появлюсь перед ним в этом моем радужном балахоне...
Я не успеваю договорить. Старик вдруг резко подается вперед и мягко валится боком на мостовую.
– Все, – говорит Щекн. – Можно подойти посмотреть, если тебе интересно.
Старик мертв, он не дышит, и пульс не прощупывается. Судя по всему, у него обширный инфаркт и полное истощение организма. Но не от голода. Просто он очень, невообразимо дряхл. Я стою на коленях и смотрю в его зеленовато-белое костистое лицо со щетинистыми серыми бровями, с приоткрытым беззубым ртом и провалившимися щеками. Очень человеческое, совсем земное лицо. Первый нормальный человек в этом городе. И мертвый. И я ничего не могу сделать, потому что у меня с собой только полевая аппаратура.
Я вкалываю ему две ампулы некрофага и говорю Вандерхузе, чтобы сюда прислали медиков. Я не собираюсь здесь задерживаться. Это бессмысленно. Он не заговорит. А если и заговорит, то не скоро. Перед тем как уйти, я еще с минуту стою над ним, смотрю на коляску, наполовину загруженную консервными банками, на опрокинутый стульчик и думаю, что старик, наверное, всюду таскал за собой этот стульчик и поминутно присаживался отдохнуть...
Около восемнадцати часов начинает смеркаться. По моим расчетам, до конца маршрута остается еще часа два ходу, и я предлагаю Щекну отдохнуть и поесть. В отдыхе Щекн не нуждается, но, как всегда, не упускает случая лишний раз перекусить.
Мы устраиваемся на краю обширного высохшего фонтана под сенью какого-то мифологического каменного чудища с крыльями, и я вскрываю продовольственные пакеты. Вокруг мутно светлеют стены мертвых домов, стоит мертвая тишина, и приятно думать, что на десятках километров пройденного маршрута уже нет мертвой пустоты, а работают люди.
Во время еды Щекн никогда не разговаривает, однако, насытившись, любит поболтать.
– Этот старик, – произносит он, тщательно вылизывая лапу, – его действительно оживили?
– Да.
– Он снова живой, ходит, говорит?
– Вряд ли он говорит и тем более ходит, но он живой.
– Жаль, – ворчит Щекн.
– Жаль?
– Да. Жаль, что он не говорит. Интересно было бы узнать, что ТАМ...
– Где?
– Там, где он был, когда стал мертвым.
Я усмехаюсь:
– Ты думаешь, там что-нибудь есть?
– Должно быть. Должен же я куда-то деваться, когда меня не станет.
– Куда девается электрический ток, когда его выключают? – спрашиваю я.
– Этого я никогда не мог понять, – признается Щекн. – Но ты рассуждаешь неточно. Да, я не знаю, куда девается электрический ток, когда его выключают. Но я также не знаю, откуда он берется, когда его включают. А вот откуда взялся я – это мне известно и понятно.
– И где же ты был, когда тебя еще не было? – коварно спрашиваю я.
Но для Щекна это не проблема.
– Я был в крови своих родителей. А до этого – в крови родителей своих родителей.
– Значит, когда тебя не будет, ты будешь в крови своих детей...
– А если у меня не будет детей?
– Тогда ты будешь в земле, в траве, в деревьях...
– Это не так! В траве и деревьях будет мое тело. А вот где буду я сам?
– В крови твоих родителей тоже был не ты сам, а твое тело. Ты ведь не помнишь, каково тебе было в крови твоих родителей...
– Как это – не помню? – удивляется Щекн. – Очень многое помню!
– Ну да, действительно... – бормочу я, сраженный. – У вас же генетическая память...
– Называть это можно как угодно, – ворчит Щекн. – Но я действительно не понимаю, куда я денусь, если сейчас умру. Ведь у меня нет детей.
Я принимаю решение прекратить этот спор. Мне ясно: я никогда не сумею доказать Щекну, что ТАМ ничего нет. Поэтому я молча сворачиваю продовольственный пакет, укладываю его в заплечный мешок и усаживаюсь поудобнее, вытянув ноги.
Щекн тщательно вылизал вторую лапу, привел в идеальный порядок шерстку на щеках и снова заводит разговор.
– Ты меня удивляешь, Лев, – объявляет он. – И все вы меня удивляете. Неужели вам здесь не надоело?
– Мы работаем, – возражаю я лениво.
– Зачем работать без всякого смысла?
– Почему же – без смысла? Ты же видишь, сколько мы узнали всего за один день.
– Вот я и спрашиваю: зачем вам узнавать то, что не имеет смысла? Что вы будете с этим делать? Вы все узнаёте и узнаёте и ничего не делаете с тем, что узнаёте.
– Ну, например? – спрашиваю я.
Щекн – великий спорщик. Он только что одержал одну победу и теперь явно рвется одержать вторую.
– Например, яма без дна, которую я нашел. Кому и зачем может понадобиться яма без дна?
– Это не совсем яма, – говорю я. – Это скорее дверь в другой мир.
– Вы можете пройти в эту дверь? – осведомляется Щекн.
– Нет, – признаюсь я. – Не можем.
– Зачем же вам дверь, в которую вы все равно не можете пройти?
– Сегодня не можем, а завтра сможем.
– Завтра?
– В широком смысле. Послезавтра. Через год...
– Другой мир, другой мир... – ворчит Щекн. – Разве вам тесно в этом?
– Как тебе сказать... Тесно, должно быть, нашему воображению.
– Еще бы! – ядовито произносит Щекн. – Ведь стоит вам попасть в другой мир, как вы сейчас же начинаете переделывать его наподобие вашего собственного. И конечно же, вашему воображению снова становится тесно, и тогда вы ищете еще какой-нибудь мир и опять принимаетесь переделывать его...
Он вдруг резко обрывает свою филиппику, и в то же мгновение я ощущаю присутствие постороннего. Здесь. Рядом. В двух шагах. Возле постамента с мифологическим чудищем.
Это совершенно нормальный абориген – судя по всему, из категории «человеков» – крепкий статный мужчина в брезентовых штанах и брезентовой куртке на голое тело, с магазинной винтовкой, висящей на ремне через шею. Копна нечесаных волос спадает ему на глаза, а щеки и подбородок выскоблены до гладкости. Он стоит у постамента совершенно неподвижно, и только глаза его неторопливо перемещаются с меня на Щекна и обратно. Судя по всему, в темноте он видит не хуже нас. Мне непонятно, как он ухитрился так бесшумно и незаметно подобраться к нам.
Я осторожно завожу руку за спину и включаю линган транслятора.
– Подходи и садись, мы друзья, – одними губами говорю я.
Из лингана с полусекундным замедлением несутся гортанные, не лишенные приятности звуки.
Незнакомец вздрагивает и отступает на шаг.
– Не бойся, – говорю я. – Как тебя зовут? Меня зовут Лев, его зовут Щекн. Мы не враги. Мы хотим с тобой поговорить.
Нет, ничего не получается. Незнакомец отступает еще на шаг и наполовину укрывается за постаментом. Лицо его по-прежнему ничего не выражает, и неясно даже, понимает ли он, что ему говорят.
– У нас вкусная еда, – не сдаюсь я. – Может быть, ты голоден или хочешь пить? Садись с нами, и я с удовольствием тебя угощу...
Мне вдруг приходит в голову, что аборигену должно быть довольно странно слышать это «мы» и «с нами», и я торопливо перехожу на единственное число. Но это не помогает. Абориген совсем скрывается за постаментом, и теперь его не видно и не слышно.
– Уходит, – ворчит Щекн.
И я тут же снова вижу аборигена – он длинным, скользящим, совершенно бесшумным шагом пересекает улицу, ступает на противоположный тротуар и, так ни разу и не оглянувшись, скрывается в подворотне.
[Предыдущая часть] Оглавление [Следующая часть]
|